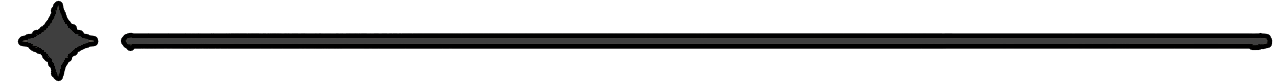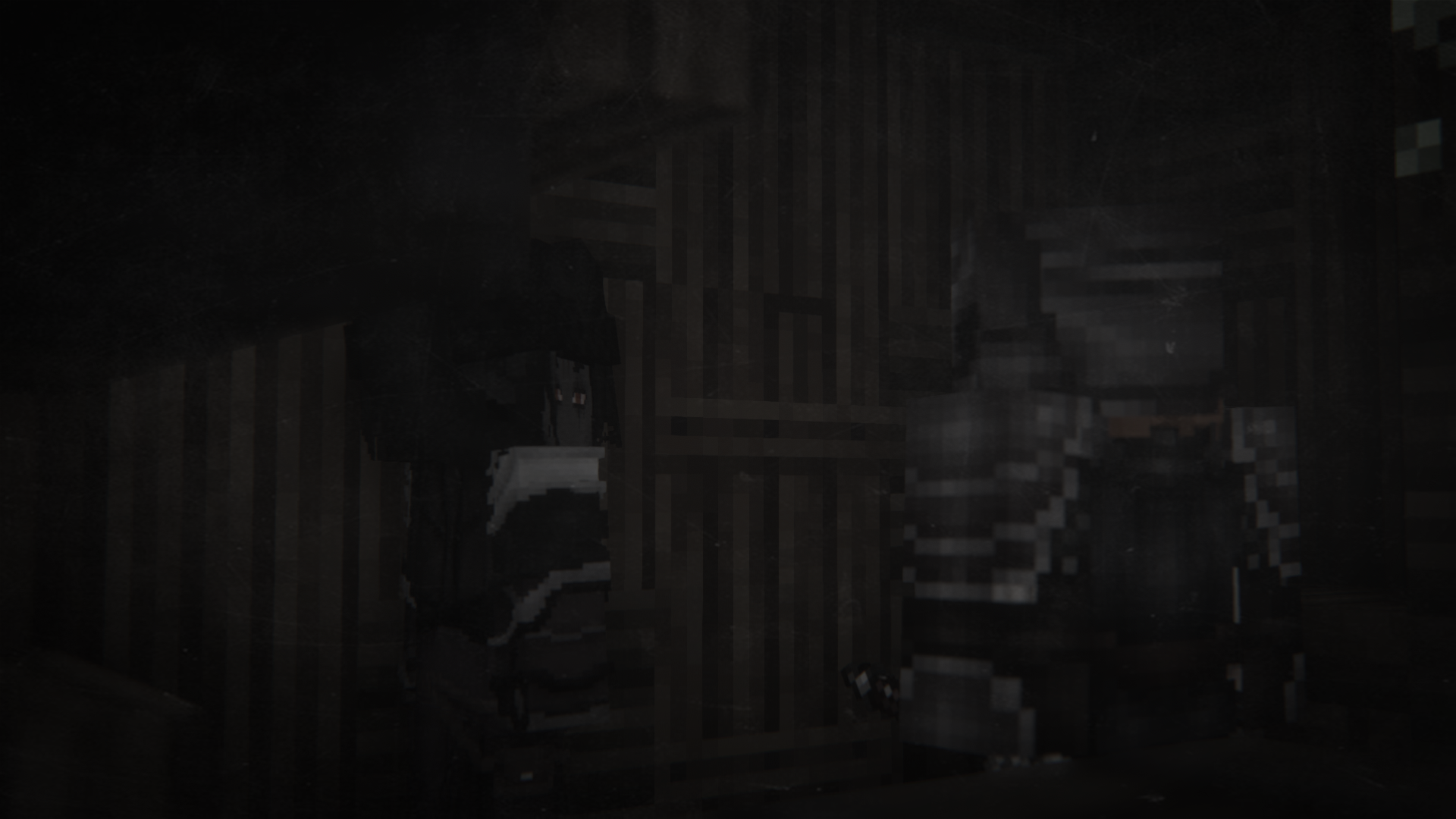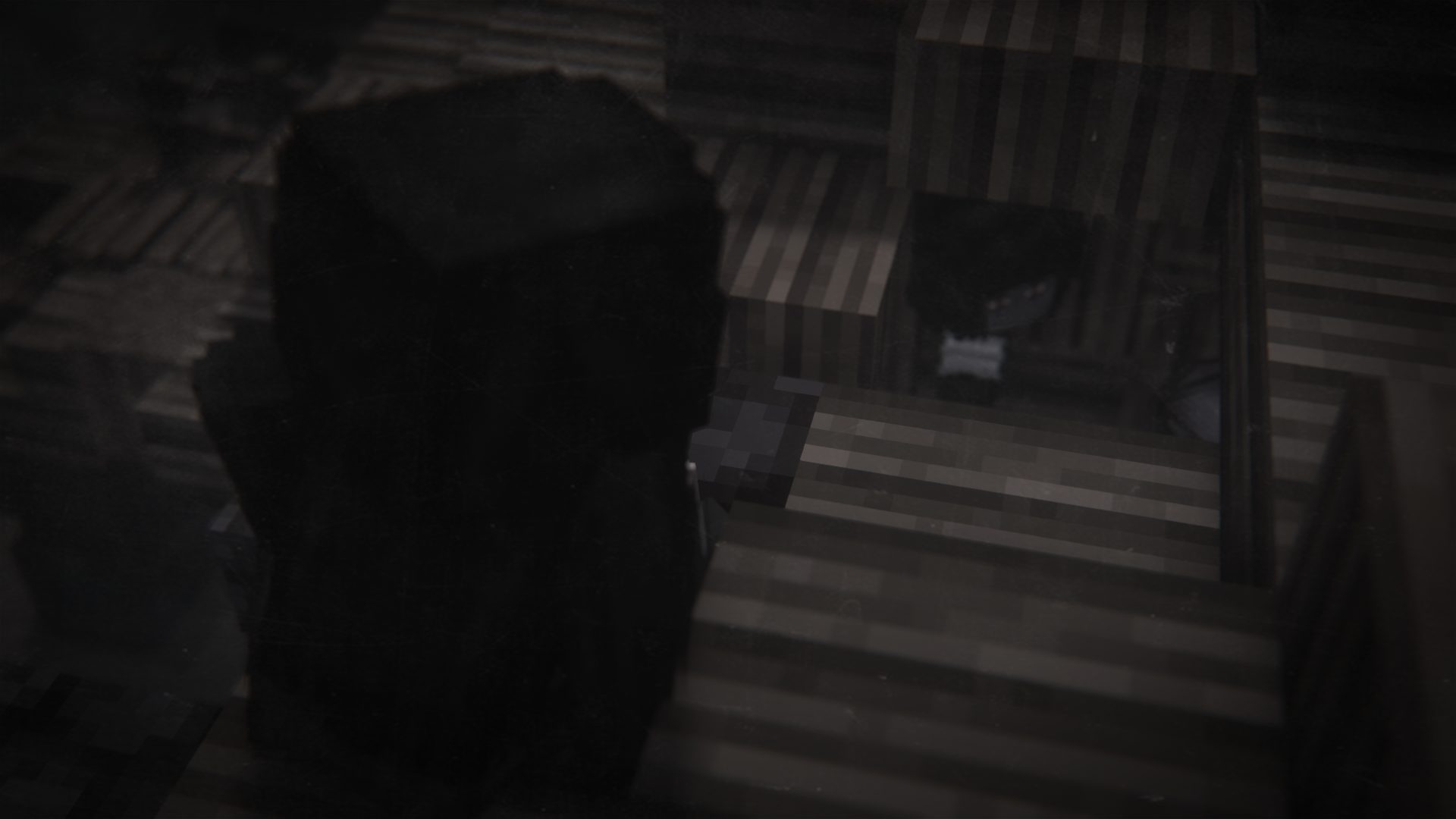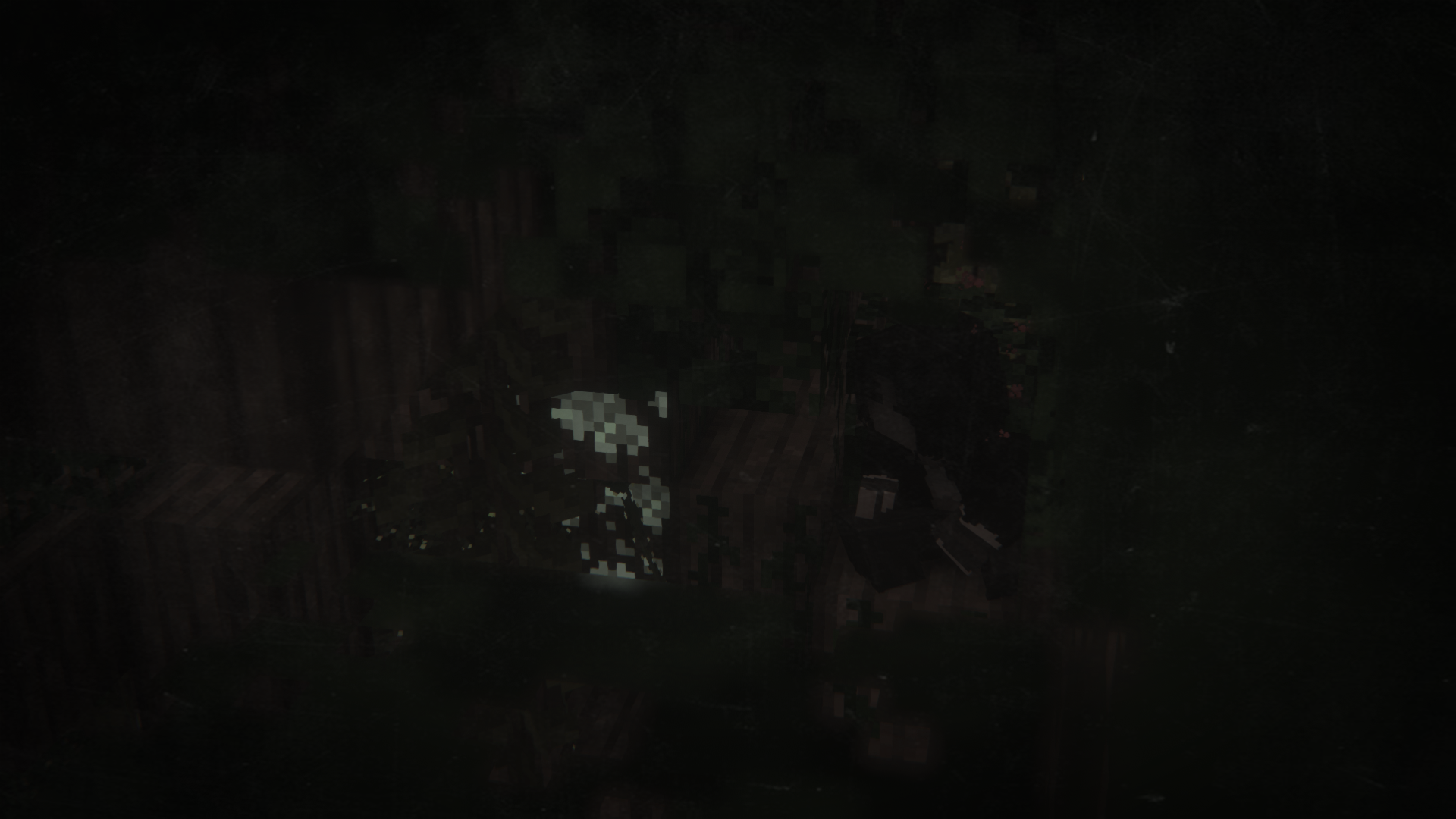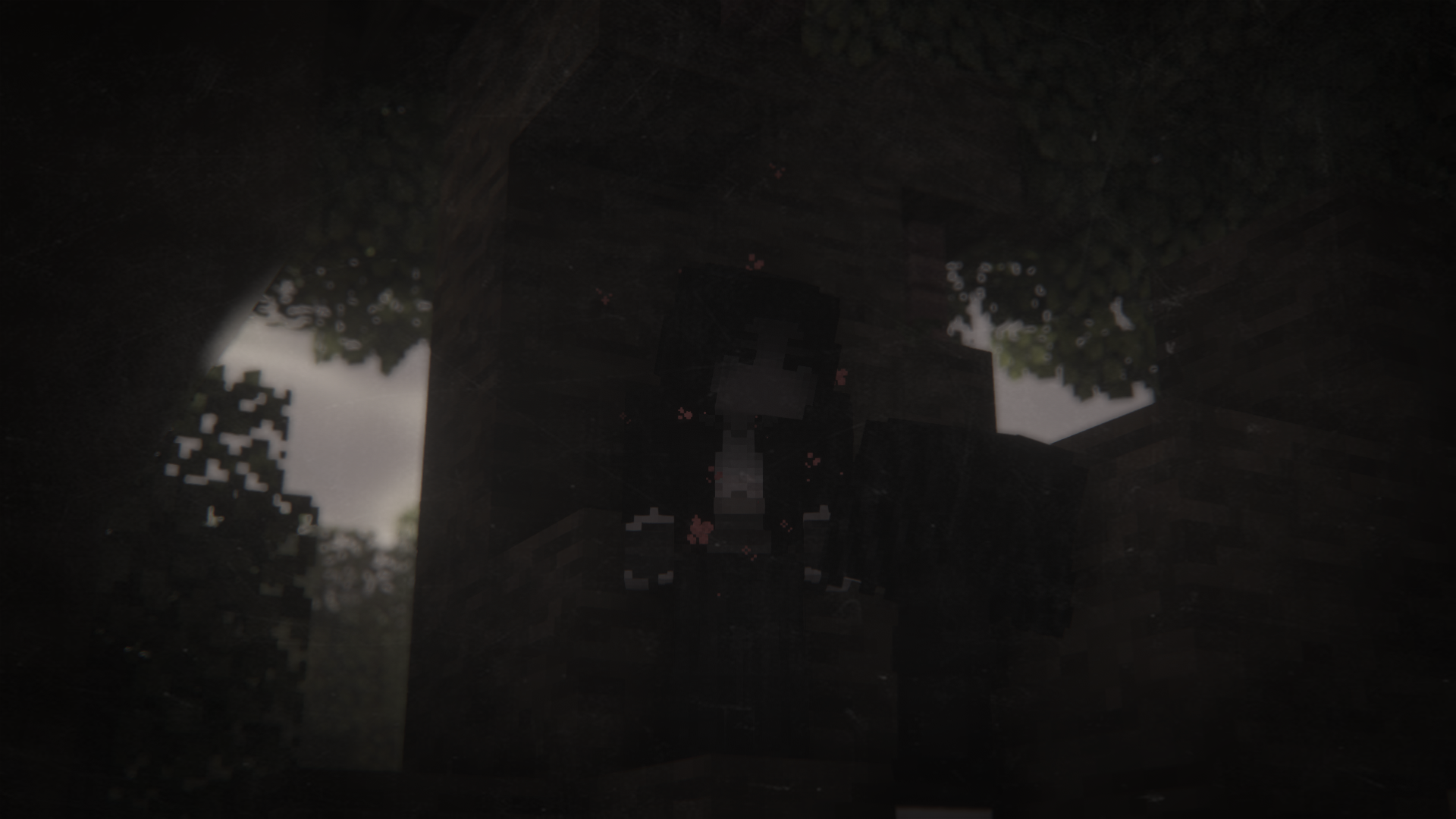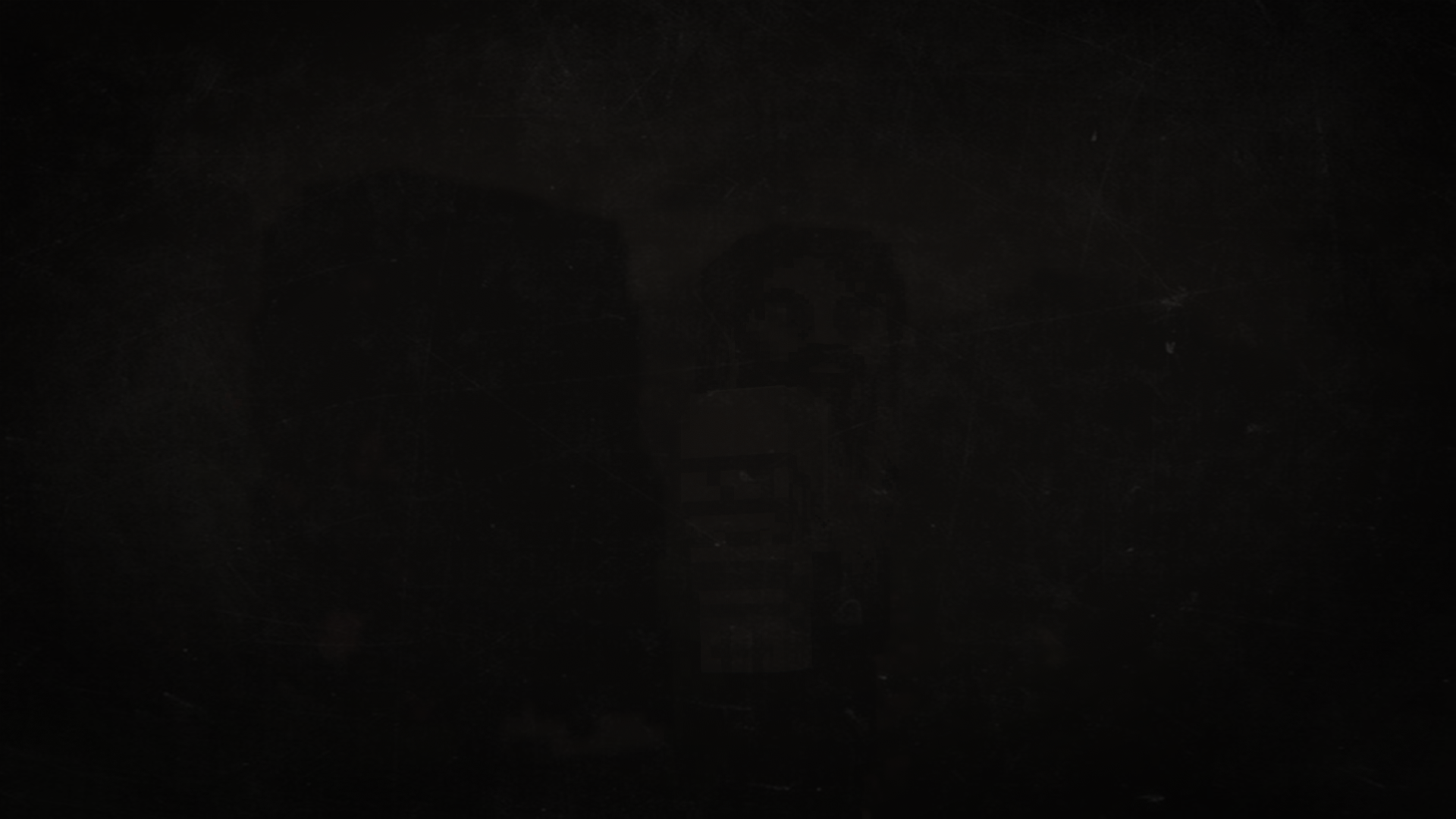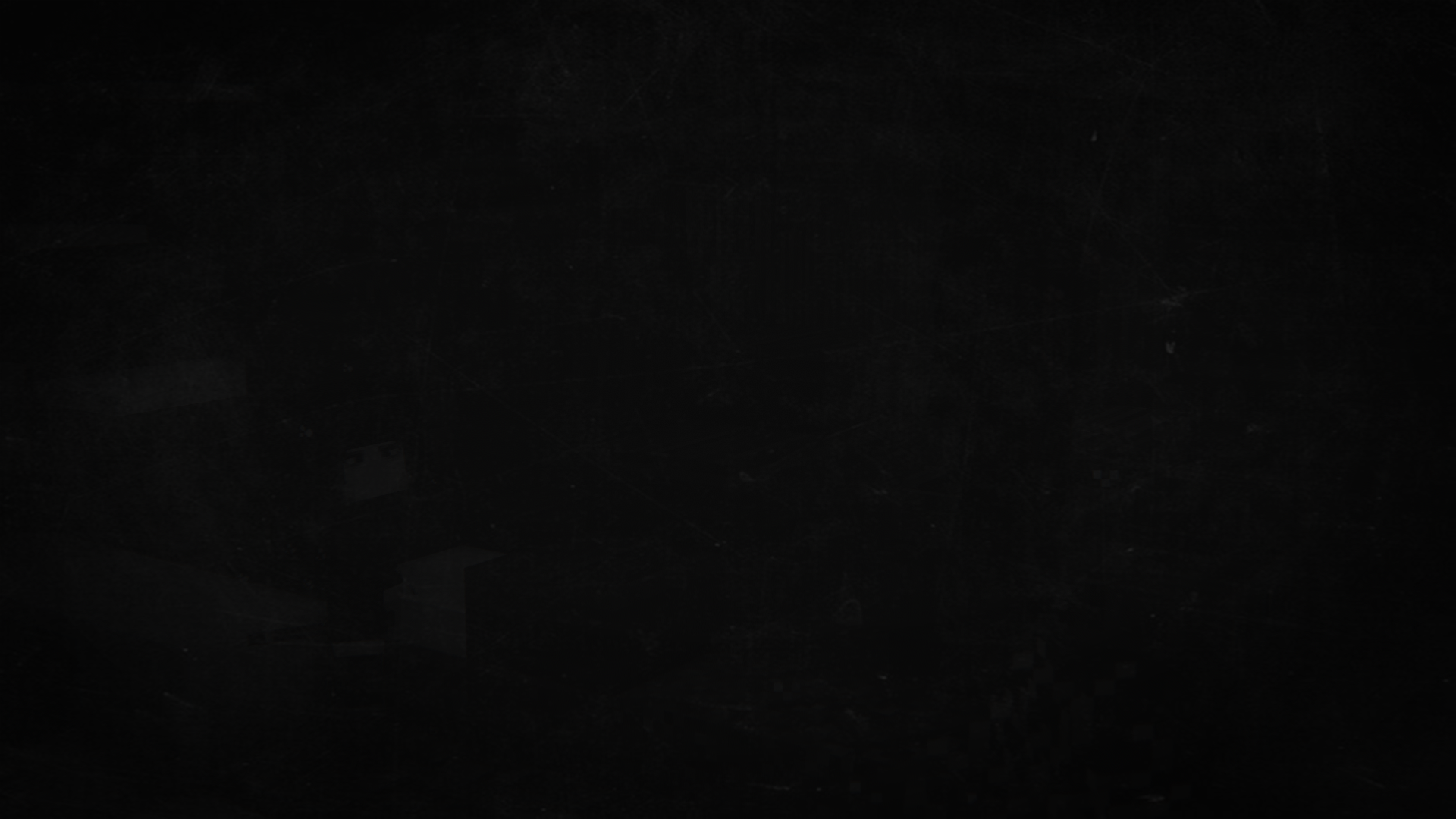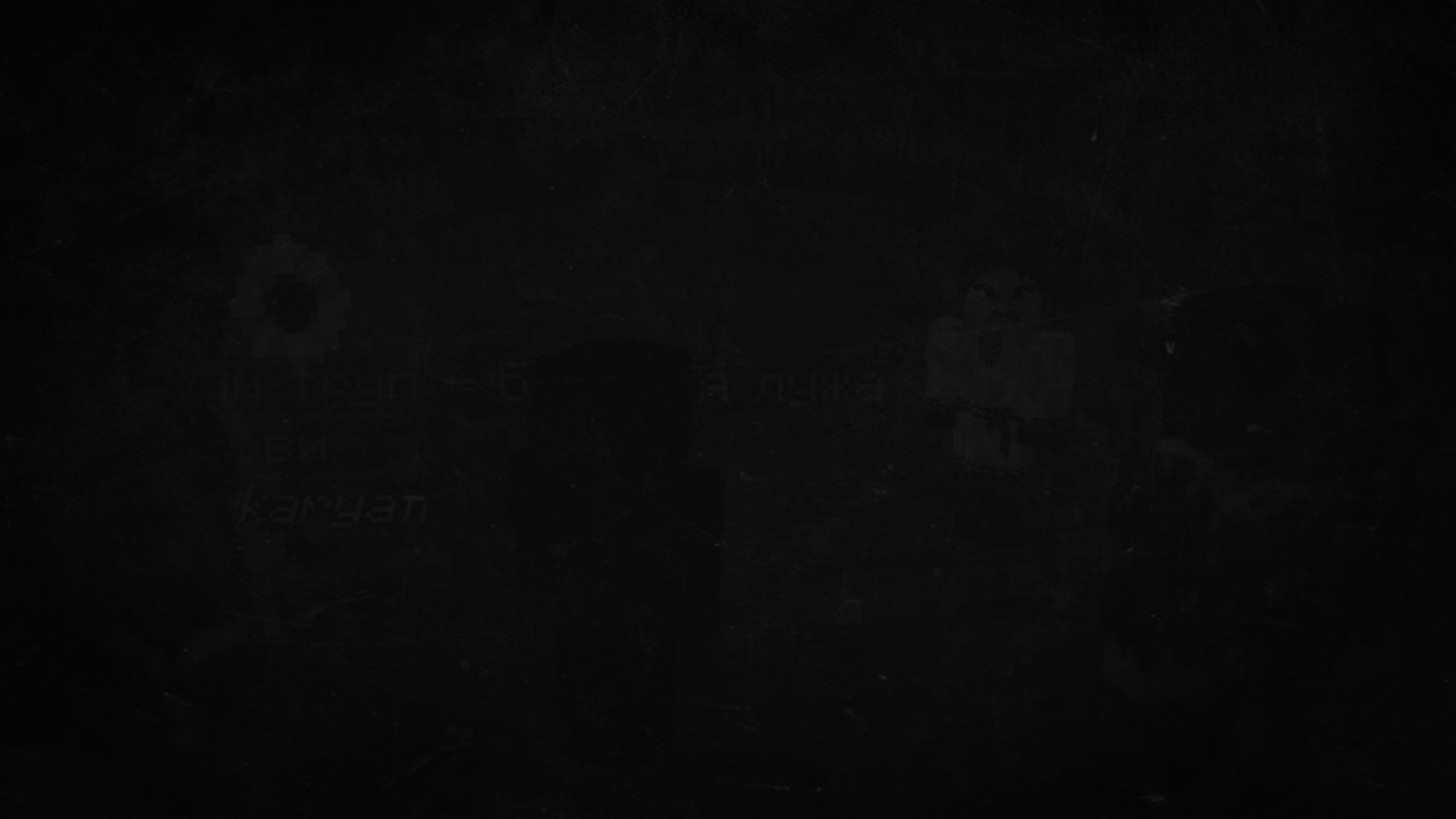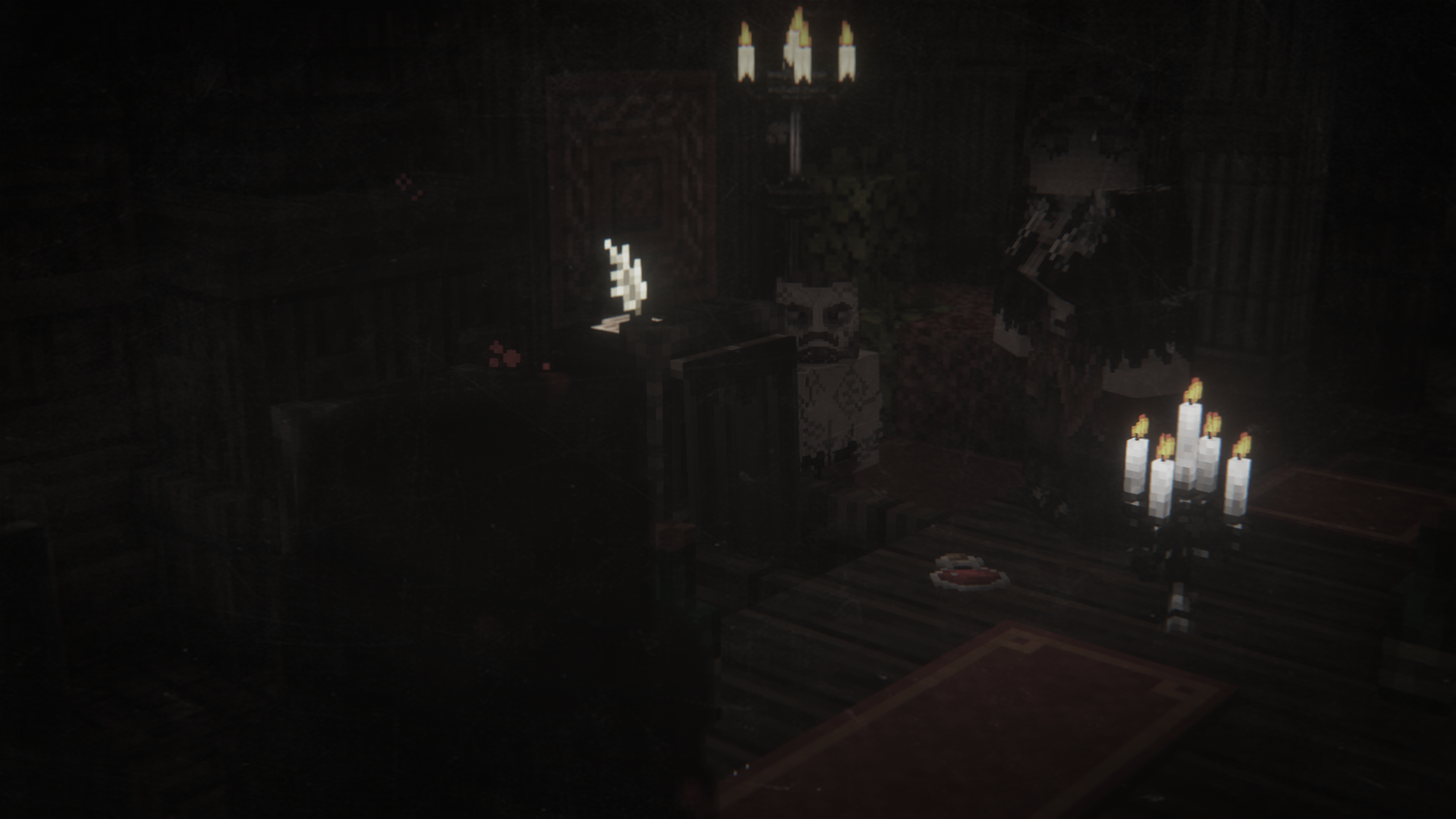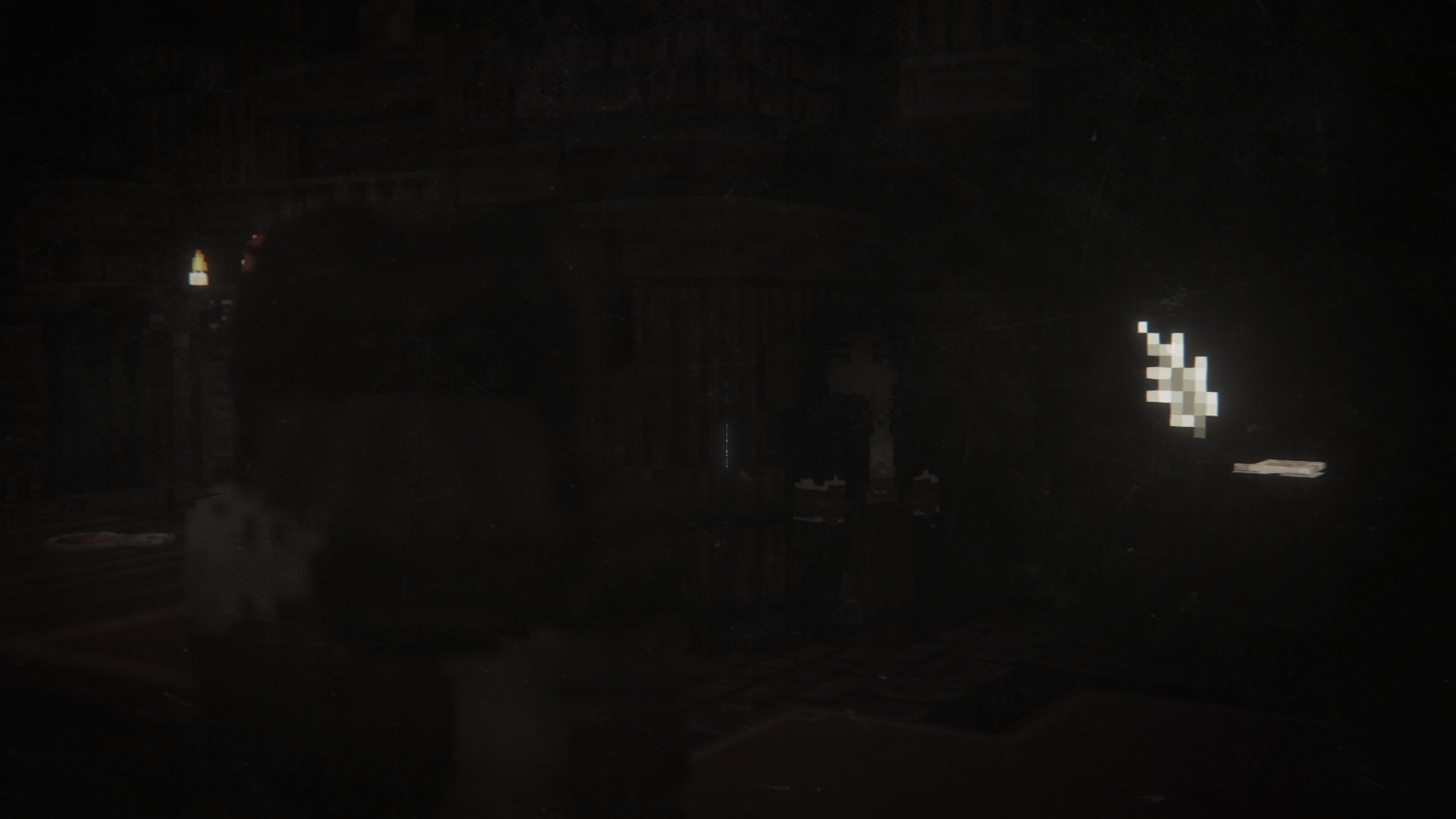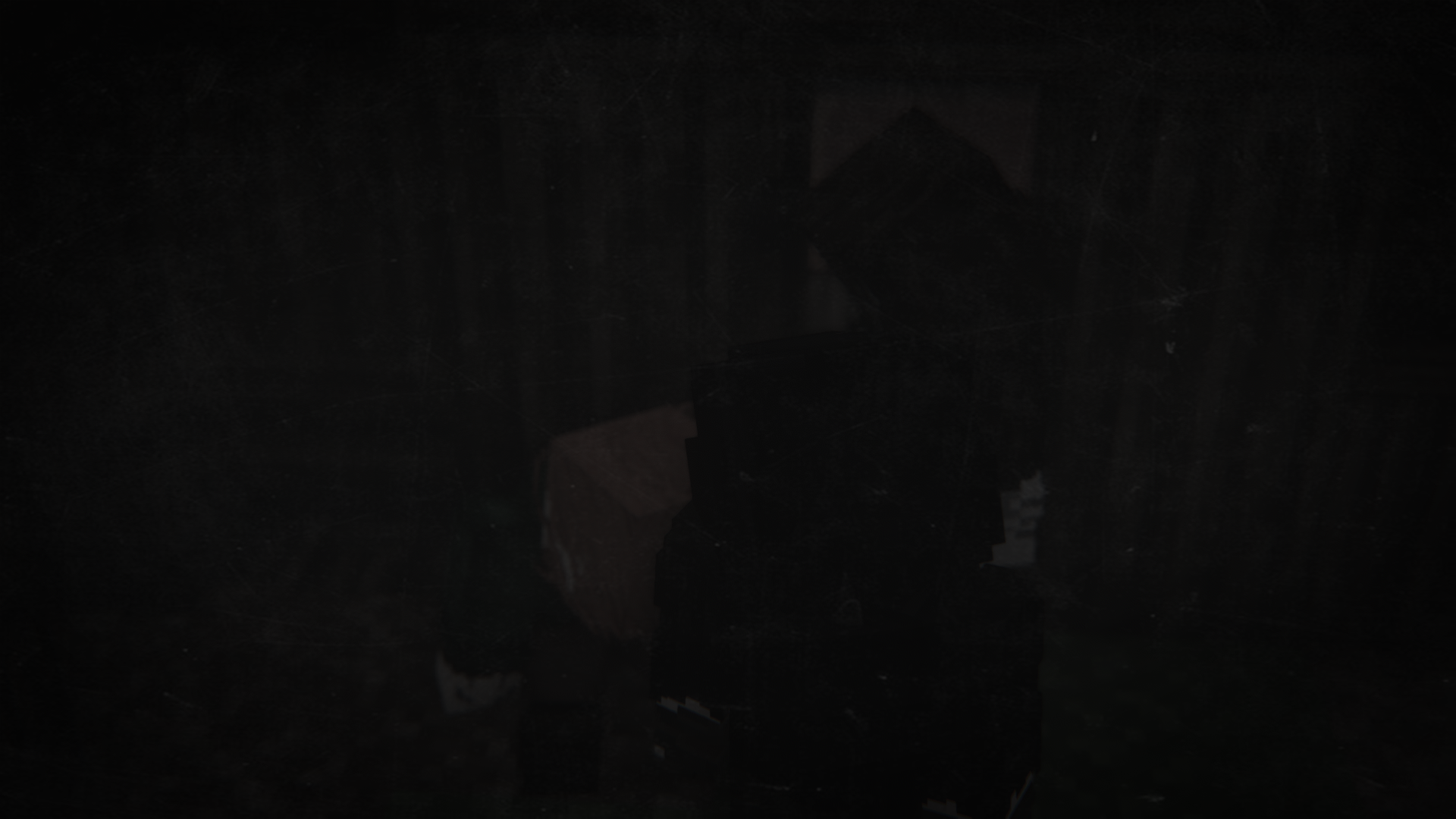Имена, прозвища и прочее:
Иде (Придуманное имя)
[Настоящее имя утрачено]
ООС Ник: Primus
Раса персонажа: Ранее человек-скральдсонец. Ныне вампир.
Возраст:
30 лет на момент обращения.
Хронологически - 165 лет.
Внешний вид:
Иде — это воплощение одичавшей, первобытной сущности, застрявшей в облике северной женщины. Её движения выдают хищную, звериную грацию — она не ходит, а крадётся, даже когда стоит на месте. Светлая кожа, бледная как лунный свет, испещрена паутиной шрамов — немых свидетельств бесчисленных схваток, как смертных, так и бессмертных. Сплетение вьющихся белокурых волос похоже на спутанную гриву. Взгляд её тёмных глаз тяжел и пронзителен; в нём читается холодная отстранённость и вечная настороженность зверя, прислушивающегося к опасности.
Одежда её проста, груба и практична — поношенная кожа, мех, прочное полотно. Ни намёка на украшения или изыски, только функциональность и надёжность. Её голос — низкий, с хрипловатым тембром, — инструмент, которым она пользуется редко и только по делу.
Характер:
Иде — это олицетворение первобытного инстинкта, дитя суровых законов природы, где выживает лишь самый зоркий и безжалостный. Обращение и столетия одичалого существования выжгли из неё сложность человеческой натуры, оставив лишь базовые, животные паттерны поведения. Её мир чёрно-бел и делится на простые категории: «свой/чужой», «угроза/добыча», «безопасно/опасно».
Она крайне необщительна и немногословна. Долгие разговоры, намёки, сарказм и политические игры для неё — бессмысленный шум, который она предпочитает игнорировать. Общается она рычанием, ворчанием или короткими, обрывистыми фразами, речь даётся ей с трудом, ведь долгое время у неё не было нужды в словах. Её терпение тонко, а реакция на любую выкинутую угрозу мгновенна и жестока — вспышка слепой, животной ярости, в которой она не разбирает друзей и врагов. Её связь с Внутренним Зверем — это не проклятие, а симбиоз. Зверь — не искуситель, а голос её подлинной сути, с которым она говорит на одном языке. В состоянии стресса, голода или ярости её человеческая оболочка трескается, обнажая дикую, неконтролируемую сущность.
В ней нет коварства. Она не лжёт и не предаёт тех, кого по своим, звериным меркам, считает «своими». Её слово, данное крайне редко и с огромной неохотой, — нерушимо. Но цена этого слова и верности — абсолютная лояльность и уважение к её свободе. Любая попытка контроля, приручения или ограничения её воли встречает лютый, непримиримый отпор, корни которого уходят в глубокую психологическую травму, нанесённую ей отцом-ярлом, видевшим в ней не дочь, но инструмент.
Таланты и сильные стороны:
Иде не чурается ни крестьянского быта, ни вовсе диких, не тронутых цивилизацией укладов жизни. Для неё совершенно естественно обрести приют в пещере или уйти в глушь лесных чащоб. Благодаря своим навыкам в Дикости и Прорицании, она имеет значительные преимущества в дикой природе.
Слабости и Уязвимости:
Став вампиром, Ида утратила большую часть эмоций и чувств, что некогда наполняли её смертное существование. Серебро стало для неё величайшей угрозой, а солнечный свет — смертельной опасностью. Обладая дисциплинами Дикости и Прорицания, она обречена на определённые уязвимости. Её связь со Зверем — это её ахиллесова пята. В состоянии ярости или сильного голода она легко теряет контроль, превращаясь в бездумную, свирепую тварь, которая крушит всё вокруг, не разбирая друзей и врагов. Это делает её изгоем в "цивилизованном" вампирском обществе. Она не видит «большой картины», её не интересуют интриги князей или древние пророчества, что делает её идеальным слепым орудием для тех, кто знает, как манипулировать её простыми инстинктами.
Для хитроумного врага её поведение легко просчитать и использовать против неё самой.
Мечты, желания , цели:
Прежние устремления и амбиции Иде рассыпались в прах, растворившись в горниле Обращения. Проклятие крови Гангрелов выжгло в ней всё человеческое, оставив лишь первобытные инстинкты. Теперь её мир сводится к трем простым вещам: бескрайней дикой природе вместо стен, верной стае волков вместо общества и теплой крови смертных вместо изысканных яств.
Проклятие:
Ранг - Вампир
Основная дисциплина - Дикость
Дополнительная - Прорицание, Знание первого (первые две)
Аспект - Отступника
Клан - Гангрел
Проклятие - Гангрелы получили своё прозвище не случайно - они куда более сильнее связаны со своим внутренним Зверем, чем другие сородичи. Чем сильнее зов Зверя, тем больше звериного проявляется в их характере и тем больше это сближает их с разумом диких животных. Они могут начать рычать, шипеть, лаять, становится на четвереньки. Более того, если зов Зверя станет куда сильнее, то и вовсе - напасть на своего обидчика либо того, кто им банально не понравился. Это ведёт к риску смертей и нарушению маскарада. Неудивительно, что в доменах дикарей, крайне мало гостей. Никто не хочет пасть от когтей умалишённого Гангрела.
Человечность - Отчужденная. (6-5)
Поколение - 7
ТОМ I: SCRALDSON. ПЕСНЯ ЛЬДА И ВОЯ ЗВЕРЯСудьба не бывает благосклонной. Она — бездушный механизм, перемалывающий кости и души в прах, и лишь тот, кто осмелится вглядеться в бездну её шестерен, узрит истинную суть мироздания — холодную, безмолвную и безучастную. Это закон джунглей, возведённый в абсолют. Сильный пожирает слабого. Быстрый обходит медленного. Хищник побеждает жертву. Иного не дано.
Истоки саги о той, кого позже нарекут Иде, покоятся в складках суровых земель Скральдсона, там, где реальность истончается, обнажая изнанку бытия. Это — царство, растерзанное ветрами, что несут пыль с раздробленных ледников и шепот забытых богов, уснувших под толщей мертвого камня. Солнце здесь — бледное, ненавидящее око, скупым взглядом озирающее тундру, где тени движутся сами по себе. Здесь выживает не самый умный или добродетельный, а самый зоркий, самый безжалостный, самый чуткий к голосу инстинкта.
В сей колыбели немого ужаса, средь фьордов, тонущих в тумане из праха и хвои, родилась девочка. Имя её стёрлось из памяти, ибо история её началась не с колыбельной, а с вони застывшей крови и хруста ломающихся костей. Её род был невелик и слаб, ютящийся в каменном городище, что постоянно осаждали то тролли с севера, то рейдеры с юга, то голод, приходящий с востока на крыльях ледяного ветра.
Она была третьим ребёнком и второй дочерью. Первую дочь, достигшую возраста замужества, обменяли на два десятка копий и три бочки зерна у соседнего клана, чтобы задобрить их ярла и отсрочить новую стычку. Старший брат, единственный сын, пал в пятнадцать зим, защищая отару овец от троллей. Его нашли размазанным по валунам, перемешанным с шерстью и костями животных. Наследника не стало.
Её отец, ярл Эйнар, мужчина с глазами, потухшими от бесконечных потерь, увидел в оставшейся дочери не дитя, а последний ресурс, последний шанс на выживание своего имени. Женщина-воин была диковинкой, аберрацией, противной природе и богам. Но голод и сталь — единственные боги, что правят в Скральдсоне. Традиция — роскошь для тех, кто живёт в тёплых долинах, а не на краю гибели мира.
Его решение не было жестом отчаяния. Это был холодный, циничный расчёт. Выдать её замуж? За кого? За старого ярла, который возьмёт её как трофей, а её род поглотит как приданое? Нет. Мёртвый род не нужен никому. Но воин, даже женщина, может защищать скот, может возглавить горстку оставшихся бойцов. Он видел в ней не человека, но функцию. Орудие.
Его обучение было лишено всякой доблести. Не было речи о славе предков или чести. Только функциональность. Он не вкладывал в её руку топор — он заставлял её вырывать его из окоченевшей хватки павшего воина, заставляя чувствовать вес смерти. Он учил её не сражаться, а убивать: бить по сухожилиям, метить в глаза, заходить сзади, использовать грязь, темноту и подлость как союзников. Он ломал её психику, выжигая из неё всё женственное, всё мягкое, всё, что могло сделать её жертвой. Он лепил из неё орудие, живой щит, последний клык своего угасающего рода. Он учил её закону природы: ешь или будь съеден.
Она росла, впитывая суровость края как губка. Её мир состоял из свиста ветра, скрипа льда под ногами и наставлений отца, жёстких и бескомпромиссных, как местные скалы. Она стала его тенью, его собаками, его оружием. Соплеменники смотрели на неё с суеверным ужасом, видя в ней не девушку, а порождение отцовского безумия, ходячее нарушение естественного порядка. Её боялись, её ненавидели, но её слушались, ибо за её спиной стояла воля Эйнара и сталь её топора.
Апогей настиг её род, когда старый ярл пал, пронзённый копьём южных рейдеров во время внезапного налёта на зимние запасы. Его смерть была не героической — он споткнулся на обледенелом мосту, и вражеское копьё нашло его горло. Совет старейшин, узрев в ней угрозу своим устоям, немощным старикам, боявшимся всего, что выходило за рамки их трусливого понимания мира, отказал ей в праве наследовать хоть что-то. Ей предложили участь немой тени — выйти замуж за того же старого, жестокого ярла с севера, что некогда сватался к её сестре, дабы обуздать её дух, обратить в собственность, в скотину. Это была не сделка, это было поглощение слабого сильным. Но она не была слабой.
Но дух её, взращённый в тени отцовского безумия, восстал против. Их законы были для неё не уставом, а цепями. Их традиции — трусливым лепетом стариков, боящихся настоящей силы. В ночь, когда старейшины собрались вынести окончательный приговор, она свершила нечто, что для её народа было страшнее простой резни. Проникнув в святилище предков — пещеру за крепостью, где в каменных нишах покоились черепа и личные вещи всех прежних ярлов, — она избрала череп самого почитаемого, первого основателя рода, и свершила над ним тихое, невыразимое кощунство. Перевернула его ликом вниз и положила перед ним сломанную пряжку от отцовского ремня — знак того, что линия его прервана, воля отвергнута, наследие попрано. Это был не вызов. Это был приговор. Приговор слабому, отжившему, недостойному памяти.
Утром старейшины обрели сие. Не было крови, не было боя. Был немой укор, обращённый к ним из самого сердца их выдуманной традиции. Они онемели от ужаса. Закон их, сила их, авторитет — всё было основано на воле предков. А ныне самый главный из них лежал в самом унизительном положении. Сей акт был не силой, но глумливым, абсолютным презрением. Не война — но плевок в душу всего их мира. Хищник показал шакалам их место.
Не стала дожидаться последствий. Пока старейшины метались в попытках свершить очистительные обряды, она покинула крепость, уходя в ночь, как уходит призрак — бесшумно, оставив за собой ледяной ужас и неразрешимый вопрос. За ней объявили охоту. Нарекли осквернительницей рода. Но ныне боялись и ненавидели иначе — не как воина, а как носителя невыразимого поругания. Именно в сии годы скитаний по чащобам, в постоянной борьбе за выживание с природой и бывшими соплеменниками, оттачивалась её дикая, варварская сущность. Она научилась доверять лишь инстинктам, спать с открытыми очами, чуять опасность кожей. Стала хищником-осквернителем в мире, желавшем её смерти. Она была одна, но она была свободна. И в этой свободе был высший закон. Закон пустошей.ТОМ II: ПЕРВОЗДАННЫЙ ГОЛОД
Лес в тот вечер был не скоплением деревьев; он был единым, дышащим организмом, пропитанным древним злом. Воздух, холодный и острый, как лезвие, нёс в себе запах хвои, гниющего под снегом валежника и чего-то ещё — медного, звериного, страшного. Она не забавлялась охотой. Она выживала. Ловушки её были продолжением воли её, смертоносной паутиной, сплетённой в чащобе. Каждая петля, каждый заострённый кол — это был вопрос, заданный миру. Мир отвечал кровью и мясом.
Она наблюдала из засады, слившись с тенями вековой ели, как отряд её преследователей — десять человек — грубо вломился в её временное пристанище. Их «битва» была короткой и жестокой симфонией щелчков ловушек и предсмертных хрипов. Петля, искусно сплетенная из конского волоса и жил, резко взметнулась вверх, увлекая за собой одного из воинов. Его крик был коротким и влажным, прерванным хрустом ломающейся шеи о толстую ветку. Другой, наступив на скрытый под слоем хвои кол, рухнул с тихим стоном, пронзенный гнилым деревом. Третий, осторожно ступая, запутался в почти невидимой сети из жил, и массивное бревно, сорвавшись с верхних веток, размозжило ему грудь.
Но ловушки лишь выиграли для неё время, отсрочили неизбежное. Часть отряда, более осторожная или просто более везучая, осталась помогать раненым и умирающим товарищам, пытаясь высвободить их из смертоносных объятий её творений. Их крики и проклятья наполняли воздух. Но трое других, глаза которых горели яростью и жаждой мести, устремились за ней. Они видели её тень, мелькнувшую между деревьями, слышали хруст веток под её ногами.
Она побежала. Не от страха, но от холодного, животного расчета. Она жила в этой глуши долгие месяцы, и каждый камень, каждое корневище, каждый склон оврага был ей знаком. Её ноги сами находили едва заметные тропки, её тело скользило между колючими ветками, не оставляя на одежде и коже ни единой царапины. Она вела их вглубь своих владений, туда, где земля была предательской, а тени — самыми густыми.
Преследователи были сильны, полны ярости, но тяжелы и неловки в этой чащобе. Они спотыкались о скрытые корни, вязли по колено в рыхлом снегу, проваливались в скрытые ямы, прикрытые хворостом и снегом. Она же двигалась с тихой, почти призрачной легкостью, словно сама тьма уступала ей дорогу. Она слышала их тяжёлое дыхание, их ругательства, становившиеся всё отчаяннее. Они теряли её. С каждым шагом их уверенность таяла, как снег на весеннем солнце. Сперва исчезли звуки её бега, затем и её силуэт растворился в гуще стволов и вечерних теней. Они остановились, в растерянности озираясь, и в тишине, нарушаемой лишь их собственным тяжёлым дыханием, услышали лишь насмешливый шепот ветра в сосновых иглах. Они потеряли её.
И в сей миг, когда она уже почти ощутила вкус победы, мир её перевернулся. Он не напал. Он материализовался из самой тени, из тьмы меж двух древних елей. Высокая, худая фигура, закутанная в тёмные ткани, пахнущие пылью веков и сухой кровью. Двинулся к ней, и не было то движением человека. Было то скольжение, бесшумное и неумолимое, как движение хищника, уверенного в своей силе. Инстинкт кричал ей: «Добыча? Или хищник?». Но её звериная суть, ещё не знавшая себе равных, оценила его не как угрозу, а как вызов. С низким рыком, более звериным, нежели человеческим, она занесла топор. Она не защищалась. Она атаковала. Таков был её ответ на любое вторжение.
Их битва длилась менее мгновения. Лезвие топора её с мокрым чавкающим звуком впилось в подставленную длань его. Но не было ни крика, ни крови — лишь тихое шипение, и плоть сомкнулась, затягивая рану за считанные секунды, будто её и не было. Холодное осознание пронзило её: это не человек. Это нечто сильнее. Сильнее её. В её мире это означало одно: беги или умри. Она отпрянула, перерубила верёвку одной из своих же ловушек. Массивное бревно, с треском сорвавшись, обрушилось вниз. Но он уже не был там — двинулся с непостижимой скоростью, и бревно лишь взрыхлило снег на месте, где он только что стоял.
…И она побежала. Не от страха смерти, но от инстинкта, велящего отступить перед превосходящей силой. Бежала, чувствуя, как последние силы покидают её вместе с кровью, сочащейся из ран, полученных в предыдущих стычках. Её сердце колотилось, предчувствуя конец. А он шёл за ней. Не спеша. Его шаги не издавали ни звука на хрустящем снегу. Он был Предопределением, от которого не убежать. Он был сильнейшим хищником.
Его рука схватила её за меховой плащ, резко потянув на себя, заставив её тушу повалиться наземь, а затем другая рука закрепилась на горле её. Хватка была не железной — железо можно разорвать. Она была абсолютной, неумолимой, как падение камня в пропасть. Он притянул её к себе, и она увидела его лицо в просвете капюшона. Ни морщин, ни эмоций. Лишь бесконечно старые глаза, в которых плескалась вся тьма этого мира.
— Сильна, — глас Его был похож на скрип вековых льдов, — Но смертна. В сём твой изъян.
И со словами этими он вонзился в шею её клыками. Процесс обращения не был милосердным даром. Была то агония, сравнимая с перерождением вселенной. Её человеческая сущность была разорвана в клочья, а затем собрана заново из тьмы, голода и вечного холода. Он выжег из неё всё человеческое, оставив лишь первобытный, незамутнённый страх и инстинкт выживания. Затем он влил в неё свою чёрную, густую, как смола, кровь. Так завершилась сага смертной женщины из Скральдсона и началась летопись Иде.
Очнулась она в сугробе, под тёмным сводом неба. Сознание её было пустым склепом, засыпанным пеплом воспоминаний. Она не помнила ни имени, ни прошлого. Лишь леденящий холод, что более не причинял боли, и всепоглощающий Голод — новое, единственное мерило бытия. Её доспехи, некогда символ силы, стали свинцовым саваном, оковами, мешающими движению. С рёвом, в коем не было ничего человеческого, лишь ярость пробудившегося Зверя, она попыталась сорвать их. Но там, где раньше кожаные ремни и металлические пряжки поддавались её силе, теперь её пальцы, хоть и наделённые новой мощью, встречали сопротивление. Доспехи не хотели отпускать свою хозяйку. Они впивались в её плоть, цеплялись за новую, нечуткую кожу, словно не желая признавать произошедшей перемены. Слепая ярость овладела ею. Она рвала и метала, не чувствуя боли от царапающих движений, пока наконец с треском рвущейся кожи и ломающегося металла не высвободилась из своих прежних оков, оставив на теле лишь рваные раны и синяки, уже медленно начинавшие затягиваться. Топор, верный спутник, был брошен как бесполезный хлам. Единственной реальностью был Зверь, пробудившийся в её груди, и его Воля была едина: ЕСТЬ.
Солнечный свет, едва пробивавшийся сквозь чащу, причинял физическую боль, жёг кожу как раскалённое железо. Инстинкт, более древний, чем разум, загнал её в глубь леса, под сень вековых елей, где царила вечная, спасительная тьма. Её миром стал узкий периметр, ограниченный слухом, обонянием и смертоносным светом дня. Территория была определена. Теперь нужно было удержать её.
Охотилась она как раненая гиена — отчаянно, грязно, но эффективно для выживания. Кровь лесных тварей — зайцев, белок, лисиц — была тёплой, жидкой похлёбкой, которая лишь разжигала аппетит, но не утоляла его. Её тело, всё ещё помнившее мышечную память варвара, двигалось с неловкой резкостью, рвало плоть когтями и зубами. Она падала в грязь, в снег, в хвою, жадно лакая тёплую жизнь из горла пойманного зверя, и рычала на собственные дрожащие руки, которые не могли насытиться. Это было унизительно. Она была Вершиной Хищников, а питалась кроликами. Но это было необходимо. Выжить. Любой ценой.
В те первые ужасные ночи её нового бытия, когда она, как раненая гиена, рвала глотки лесным тварям, уже тогда начали проявляться первые, смутные отголоски грядущих сил. Дикость говорила в ней голосом инстинкта, заставляя вздрагивать от каждого шороха, чуять запах крови на ветру за версту, двигаться с немыслимой для человека резкостью. А Прорицание порой являло ей жуткие вспышки-видения: прикоснувшись к ещё тёплому телу оленя, она вдруг видела мгновенный образ — тень рыси, прыгающей с ветки, ощущала её когти в своей плоти, слышала последний хруст кости. То были не мысли, но чувства, впивающиеся в мозг, как занозы. Она не отшатывалась, а впитывала эти ощущения, учась у добычи, у других хищников. Это был новый язык мира, и она училась на нём говорить.
Именно в таком унизительном положении — с окровавленным подбородком, прильнув к ещё тёплому телу оленя, — она и услышала его. Тихий, насмешливый голос, знакомый до боли в несуществующей памяти.
— Звери не слишком сытные, — произнёс он, его голос был грубым, как скребок по камню. — Лучше попробуй человеческую. Оно тебе понравится гораздо больше. И постарайся не повторять тех ошибок, что уже случались. С той тварью, что живёт внутри, неплохо поддерживать близость, но полностью ей не поддаваться. Но не показывай другим, что ты ешь. И главное — как.
Он не стал ничего объяснять. Не стал учить. Он бросил ей эти обрывки истины, как кость собаке, и растворился в чаще, оставив её наедине с чудовищным откровением. Голод обрёл имя. И цель. Его слова не были приказом. Они были советом Сильного. И она их услышала. Не из покорности, а из уважения к знанию, которого у неё не было.
Первая охота на человека была не охотой. Это была бойня. Путник — торговец, заблудившийся в метели, — увидел в ней испуганную, замёрзшую девушку. Он протянул к ней руку с краюхой хлеба. Его последним ощущением в жизни был не укус, а объятие. Она вцепилась в него с силой медведицы, ломая рёбра, погружая клыки в шею и жадно глотая тёплую, густую, настоящую кровь. Восторг был настолько всепоглощающим, что она потеряла над собой контроль, рванула, разорвала… Зверь пировал.
…Очнулась она сидящей в луже крови, среди клочьев одежды и плоти. Рядом валялась брошенная ею краюха хлеба. Не было ни ужаса, ни экстаза. Было понимание. Осознание цены ошибки. Она была сильна, но неконтролируема. Она оставила след. След ведёт к добыче, но след может привести и охотника к тебе. Она была монстром. И это была её природа. Её суть. Следовало не рыдать над этим, а учиться контролировать. Убивать быстро, чисто, без следов. Утолять голод, не становясь рабом ярости. Таков был урок.
Так началась её новая жизнь — жизнь ворующего хищника. Она выслеживала одиноких путников, охотников, отставших от своих. Убивала быстро и тихо, стараясь не устраивать кровавых оргий, закапывая тела в глухих местах. Она училась. Методом кровавых проб и ошибок. Зверь внутри был её частью, её сутью, но не хозяином. Они были партнёрами в охоте. Она училась слушать его шёпот, но отдавать приказы сама.
Сколько времени она провела в этом лесу? Очень много. Она изучила каждый его угол, за которым скрывалась неизведанная тьма. Дни тянулись мучительно медленно, превращаясь для неё в бесконечный кошмар, из которого не было выхода. Её разум был единым с зверем. Не было конфликта. Был симбиоз. Жизнь была тяжёлой, но простой. Голод — охота — пир — сон. Вечный круг.
Однажды в её лесу снова появился человек. Странник. И голод вновь напомнил о себе. Но когда она попыталась напасть, встретила неожиданно сильное сопротивление. Это был не простой путник, а… тот самый мужчина, с которым она столкнулась после пробуждения. Она отступила, внимательно разглядывая его. Не как добычу, а как равного. Он был силён. Он знал больше. Он заслуживал наблюдения. Отряхнувшись, он приблизился. И только тогда безымянная заметила волков, сопровождавших его. Не как слуг, а как союзников по охоте. Как и прежде, он не стал медлить и заговорил.
— Не удалось, да? Ничего, с людьми так часто случается, — с легким смехом заметил он, глядя на своего птенца. Его смех не был злым. Он был довольным. Как учитель, видящий, что ученик усвоил первый урок, даже через неудачу.
— Вижу, что в лесу тебе неплохо поживается. Пришло время сменить обстановку. Долго ты здесь не продержишься, сложно искать людей. На юго-западе от тебя есть деревня. Рекомендую направиться туда. Но сначала вот два совета: не ешь слишком много людей, не показывай им свое истинное я, старайся вести себя так, будто ты не отличаешься от них. А, и ещё, войди им в доверие. Не раскрой им своего истинного я, — у него были проблемы со счетом, но это сейчас не имело значения… Его советы были не приказами, а тактикой старого охотника. Как слиться со стадом, чтобы быть ближе к добыче. Как скрывать свои когти, чтобы нанести верный удар.
— Поняла? И продумывай лучше свои атаки… Иде. Пусть это - будет твоё имя.
После продолжительной, однообразной речи безымянная… Как ни странно, обрела имя. “Иде”. Оно прозвучало не как звон колокола, а как кличка, данная вожаком новому члену стаи. Оно не несло чувства принадлежности, но несло функцию. Имя — это маска для мира людей. Инструмент. Она приняла его, как принимает волк новую шкуру зимой.
Она взглянула на мужчину. Он был силён. Он был опытен. Он делился знанием. Это вызывало не доверие, но уважение. «Что он знает о моём “я”?» — подумала Иде. Её «я» было Зверем. А Зверя раскрывать не следовало. Его советы были верны.
— П-почему в.. Вы… В–вернулись? — её речь звучала немного неестественно, гортанные звуки перемежались с забытыми словами. Говорить было не нужно. Рычать — достаточно. Но здесь требовался иной навык.
— В тебе есть что-то.. Любопытное. Не задавайся этим вопросом, — ответил он, и его глаза заискрились в свете, пробивающимся сквозь листву. — И не думай, что я за тобой не слежу. Так что не натвори глупостей, пока учишься быть той, какой должна быть. Если понадобиться.. Я помогу. Но лишь в крайнем случае. И я этого не хочу. Так что не расслабляйся.
Он резко дернул рукой в сторону. Иде, застигнутая врасплох, отпрянула и несколько секунд смотрела на него в растерянности. Это был не жест угрозы, а проверка рефлексов. Она их прошла. Постепенно понимая его намерения, она встала и двинулась в указанном направлении, но вскоре остановилась и оглянулась — мужчина позади уже исчез. Иде покачала головой и продолжила идти, приближаясь к опушке леса. Её мысли были переполнены не догадками, а расчётом. Новые угрозы. Новая территория. Новая охота. Его указание было направлением движения. И она двинулась, ибо здесь ей действительно стало тесно.ТОМ III: В СТАЕ ДВУНОГИХПересекая гнилую опушку леса, она ступила в мир, лишённый привычных ей ориентиров — скупой, вымерший, растянутый под свинцовым небом. Бескрайняя белизна снегов резала глаза, лишённая укрытий чащи. Инстинкт требовал бежать обратно, под сень гниющих елей, к безопасности теней, где можно спрятаться, притаиться, стать невидимой. Но она была хищником, а хищник исследует новые земли, оценивая их с точки зрения укрытий, угроз и потенциальной добычи. Её взгляд, лишённый человеческого любопытства, скользил по горизонту, фиксируя выступы скал, овраги, редкие островки мёртвого леса. После недолгого изучения она двинулась в заданном направлении, её шаги бесшумно тонули в снегу.
На пути встретился замерзший источник, вмёрзший в землю как стеклянный глаз. Лёд был тонким, хрупким. Один удар — и поверхность рассыпалась с сухим, звонким хрустом, обнажив чёрную, неподвижную воду.
Там, в чёрной глади, застыло лицо, которого она не знала. Бледное, как трупное оцепенение, испещрённое тенями и светом. Светлые пряди волос, спутанные и жесткие, как зимняя шерсть зверя, обрамляли черты, обостренные голодом и лишениями. Но не это привлекло ее внимание. Вода отражала глаза. Не глаза женщины из Скральдсона, не глаза охотника или воина. Это были глаза иного существа — глубокие, темные, почти черные озера, в которых плескалась тихая, бездонная чуждость. В них не было ни отчаяния, ни любопытства, лишь холодная, отстраненная оценка хищника, впервые узревшего собственный облик.
Она медленно подняла руку, и отражение повторило движение. Пальцы, испачканные в грязи и прошлой жизни, коснулись кожи лица. Холодная, чуть шершавая поверхность под подушечками пальцев. Реальность. Её реальность.
Это не вызвало в ней ужаса. Не было ни паники, ни смятения. Это был факт. Новый и непреложный. Как то, что солнце жжёт кожу. Как то, что ночь холодна. Она была этой бледной тварью с глазами пустоты. Она провела рукой по лицу, словно стирая невидимую маску, затем вытерла мокрые пальцы о грубый мех плаща и двинулась дальше, вглубь белой пустыни, унося с собой знание о новом лике своего одиночества.
Дни тянулись мучительно. Она скрывалась в промёрзших оврагах, под развалинами старого стойбища, где не было ни души, а ночью двигалась вперёд, на юго-запад, следуя указанию Сира. Её существование свелось к базовым функциям: найти укрытие, переждать день, двигаться, заглушая голод острой болью в пустом животе.
Скитания привели её к подножью низких, поросших чахлым лесом гор, на границу с Флодмундом, к деревушке, чьё название стёрлось из её памяти сразу же, как стражи у ворот его произнесли. Место было бедным, замкнутым, пропитанным запахом дыма, навоза и страха. У ворот её остановили двое — мужчины в потёртых кожанках, с копьями, выглядевшими как игрушки в её воспоминаниях о силе.
— Стой! Откуда путь держишь, девка? — голос старшего стража был хриплым от холода и дешёвого бренди.
Она молчала, просто смотрела на них своими слишком бледными глазами. Её вид — оборванная, испачканная в саже и крови одежда, неестественная бледность, животная настороженность — говорил сам за себя. Чужак. Дикарка. Возможно, беженец.
— Говори! Иль языка нет?
Она попыталась издать звук. Из её горла вырвался лишь скрежещущий, гортанный хрип, звук ломающегося сухого дерева. Она забыла, как это — формировать слова. Её язык был инструментом для питья, а не для болтовни.
Стражи переглянулись. В их глазах читалось не сострадание, а подозрение и досада. Лишний рот. Лишняя проблема. Один из них грубо обыскал её, его пальцы скользнули по холодной коже, не чувствуя живого тепла.
— Ничего нет. Как есть, голая. Может, юродивая? Или разведчица… — пробормотал младший.
— Куда ей, щуплой… — старший плюнул. — Ладно. Слушай, ты. Есть у тебя где ночевать? Родня тут?
Она лишь покачала головой, её движения были резкими, угловатыми, словно у большой хищной птицы.
— Чёрт с тобой. Иди. Но чтоб не шаталась ночью. У нас свой порядок.
Её впустили. Приём был холодным: кормить и обогревать лишнего рта никто не хотел. Ночь ей пришлось провести под открытым небом, забившись в пустой собачий загон… Ну, кто сказал, что будет легко? Хищник должен выдерживать лишения. Она свернулась калачом в грязной соломе, не чувствуя холода, и погрузилась в подобие сна, где не было сновидений, лишь тягучее, чёрное ничто.
В последующие дни она старалась адаптироваться. Её природная дикость резко контрастировала с окружающими, и потому она лишь наблюдала, изучала повадки стаи. Она не говорила. Её горло издавало лишь хрипы и гортанные звуки. Местные решили, что она — божья юродивая, тронутая умом, или брошенка из каких-то дальних краёв. Её взяла к себе вдова-кожевенница, нуждавшаяся в сильных руках для тяжёлой работы. Иде стала ночным работником. Днём она запиралась в тёмном, вонючем сарае, сжавшись в углу от животного ужаса перед солнечным светом, пробивавшимся сквозь щели, а ночью выделывала шкуры с нечеловеческой выносливостью и силой. Работа была монотонной, грязной, но простой. Она давала кров и объяснение её ночному образу жизни. Это была удобная маскировка.
Именно здесь начался её долгий, мучительный путь к речи. Её учителем стал старый воин, отставной стражник по имени Хаггар, потерявший ногу на службе и приютившийся на окраине деревни. Он был болтлив и одинок. Он садился рядом с ней у костра, курил вонючую трубку и говорил. Говорил бесконечно: о старых войнах, о забытых королях, о землях Трелива, о том, как устроен этот жестокий, несправедливый мир.
Иде сначала просто слушала. Звуки сливались в непонятный, бессмысленный поток. Она указывала пальцем на предмет, и Хаггар называл его. «Нож». «Вода». «Огонь». Она повторяла звуки, коверкая их, её язык отказывался повиноваться, выдавая вместо слов звериное рычание. Хаггар смеялся, но не со злым умыслом, а с удивлением и какой-то горькой жалостью. Он видел в ней дикарку, ребёнка природы, и его учительский инстинкт проснулся. Для Иде это было не учёбой, а изучением повадок стаи. Чтобы охотиться среди волков, нужно выучить их язык.
Месяцы превратились в годы. Она начала складывать слова в простые, корявые фразы. «Иде принести вода». «Хаггар, говорить ещё». Её прогресс был медленным, мучительным, но осязаемым. Она узнала названия окружающих земель: Флодмунд с его дремучими лесами и суеверными жителями, Бугтава — холодная и воинственная. Информация была оружием. Карта местности, где можно охотиться.
А потом наступила Зима. Долгая, лютая. Охота стала невозможной, деревня замкнулась в себе. И в один вечер Голод, долго дремавший в её утробе, проснулся. Проснулся яростным, неконтролируемым пламенем, сжигающим разум. Она пыталась бороться, пила кровь скота, тайком вырезая овец из загона. Но это не помогало. Зверь требовал своего. Настоящей пищи. Той, что ходит на двух ногах и говорит.
Она зашла в хижину к Хаггару. Он сидел у камина, чинил сеть. Увидев её, улыбнулся редкими, жёлтыми зубами.
— Иде? Что стряслось, дитя? Выглядишь бледной. Холодно? Подвинься к огню.
Он протянул к ней руку, жилистую, испещрённую старыми шрамами. И в его глазах она увидела не страх, а ту самую слабость, ту самую жалость, что так ненавидел её отец. Это стало последней каплей. Что-то в ней щёлкнуло. Разум погас. Зверь получил контроль. Стадо защищает своих, но хищник голоден. Он был слаб, стар, немощен. В природе такие особи первыми идут на корм сильным. Это был естественный порядок, отбор.
Очнулась она уже на пороге хижины. Во рту был знакомый медный привкус. Память подсказывала обрывки: его сильная, но беспомощная попытка оттолкнуть её, короткий, обречённый хрип, тишина, нарушаемая лишь жадным, чавкающим звуком. Она вломилась внутрь. Тело старика лежало у очага. Она не просто убила его. Она... пировала. Оставила после себя кровавую, липкую массу.
Не было ужаса. Не было сожаления. Было холодное, кристально ясное осознание ошибки. Она потеряла контроль. Она оставила след. Большой, кровавый, пахнущий след. Она нашла в углу хижины кувшин с маслом для ламп, выплеснула его на высохшие бревна стен, швырнула в очаг головешку. Ночью, под завывание вьюги, она бежала из деревни, оставив за собой столб чёрного, жирного дыма и запах горелого мяса. Урок был усвоен. Жалость, привязанность, слабость — ведут к провалу. Охотник не должен иметь привязанностей к стаду. Он должен только охотиться. Цена урока была высокой. Но урок был выучен.ТОМ IV: ЗАКОНЫ ЧУЖОЙ СТАИПуть к Фрейхетланду пролегал через земли, что казались выпотрошенными самим Временем. Дорога, узкая и разбитая, вилась меж холмов, поросших чахлым, почерневшим кустарником. Иде двигалась в этом угасающем мире тенью, её шаги не издавали ни звука, а взгляд, острый и внимательный, сканировал окрестности, выискивая угрозы и… добычу. Голод, вечный спутник, начинал шевелиться в её утробе.
Она замерла, почуяв их раньше, чем увидела. Два острых, чужеродных всплеска в монотонном фоне мира. Не люди. Не звери. Другие. Хищники. Она замедлила шаг, оценивая ситуацию. Бежать? Нападать? Ждать.
Они материализовались из густых сумерек беззвучно, будто сама тьма сгустилась в их обличье. Двое. Их появление не нарушило тишины, но исказило её, наполнив иным, чуждым живому миру звучанием — тихим гулом древней власти.
Первый, что шёл впереди, был высок и сухопар, облачён в потертый, но безупречно сшитый камзол, не скрывавший, однако, латы из чернёной стали под тканью.
Второй… Второй был его прямой противоположностью и самым очевидным орудием. Приземистый, мощный, с плечами, способными сломать хребет быку. Его кожаный доспех был испещрён множеством порезов и заплат, а небрежно заткнутый за пояс секач пах железом, старым потом и землёй. Его лицо, изборожденное шрамами, хранило вечную, немую готовность. Не злоба, не ярость — профессиональная целеустремлённость мясника, знающего своё дело. Проверенный инструмент.
Высокий вампир, Альрик, поднял руку в изящном, почти небрежном жесте, останавливая её. Его голос был подобен скрипу пергамента.
— Постой, странница. Дозволь полюбопытствовать: куда путь держишь столь поспешно в наших владениях?
Иде остановилась. Его тон, полный снисходительного любопытства, резанул её. Он говорил с ней как с дикарём, как с низшим. В её мире сила говорила с силой напрямую. Она ответила с той же прямолинейностью.
— Мои дороги - мои заботы, — голос её прозвучал хрипло, но твёрдо.
Низший вампир, Герхард, не засмеялся. Он лишь медленно, оценивающе повёл головой, его взгляд скользнул по её одежде, позе, застывшим мышцам, — Чужая, — произнёс он глухо, и его голос был похож на подземный гул. — От неё несёт пылью дальних троп, голодом… и свежей кровью. Не своей.
Альрик поморщился, — И впрямь. Манеры отсутствуют вовсе. Неужто твой Сир не удосужился преподать тебе хотя бы основы благопристойности, чадо? Или ты из тех… бродяг, что не ведают ни дома, ни рода? Каитифф?
Слово прозвучало как оскорбление. Но не личное. Оно означало «ничья», «одиночка». В мире стай это был признак слабости.
— Мой Сир, — прошипела она, и голос ее стал низким, в нём зазвучал рык Зверя, — Научил меня одному: сильный пожирает слабого. А вы… вы пахнете тлением и словами. Пустыми, никчемными словами.
Она сделала шаг вперед. Это был не вызов, а демонстрация. Она не боялась их.
— Стой, — голос Альрика не повысился, но в нём появилась сталь. Он не привык, чтобы с ним спорили. Герхард молча сместил вес тела, его рука неприметно легла на рукоять секача. Не угрожающе, а привычно — как мастер проверяет заточку инструмента перед работой.
— Ты находишься в домене Фрейхетланд, — продолжил Альрик, и каждое слово падало, как камень. — Здесь есть порядок. Закон. Твоя дикость — это угроза ему. А угрозы либо устраняют, либо… приручают.
Герхард наконец заговорил, обращаясь к Альрику, а не к ней, как будто докладывая: — Сильная. Дикая. Контроля нет. Опасность непредсказуема.
— Наблюдаю, — сухо отозвался Альрик. Его взгляд, тяжёлый и всевидящий, вернулся к Иде. — Сила без дисциплины — это шум, привлекающий охотников. Ты, дикарка, подобно крику в ночи. Ты уже навлекла на себя внимание. Наше.
— Ваше внимание мне не нужно, — бросила она.
— Это не просьба, — парировал он. — Это данность. Ты нарушила границу. Теперь твоя судьба — решение шерифа.
Он выдержал паузу, давая словам просочиться в сознание, как яд, — Закон здесь прост. Молчание. Мы — тени, и смертные не должны знать о нас. Власть. Старшие правят, младшие подчиняются. Род. Сир отвечает за чадо. Твой либо мёртв, либо беспечен. Или тебя отвергли. Хлеб. Люди — скот, не более.
Иде слушала, и с каждым его словом стены внутри нее сжимались. Эти правила, эти «можно» и «нельзя»… Они были новыми цепями, наброшенными на её шею. Ей предлагали не свободу, а новую клетку, пусть и позолоченную.
А потом Альрик произнёс ключевое, и его голос приобрёл практичную, почти деловую интонацию: — Выбрасывать ресурс — глупо. Герхард, что скажешь? Сможет ли это хоть на что-то сгодиться? Кроме грубой силы.
Герхард, не отводя от неё взгляда, ответил так же буднично: — Сырой материал. Рискованно. Но… да. Если выдрессировать. Для грубой работы. Отправлять в те места, куда цивилизованные соваться не станут.
Альрик кивнул, решение было принято, — Идёшь с нами. Будешь представлена шерифу. Решение за ним. Попытаешься сопротивляться — Герхард объяснит тебе, почему это ошибка. Он хорош в подобных… объяснениях.
Мысль о том, что её поведут на суд, как диковинную зверушку, чтобы поставить на цепь, заставила её кровь похолодеть. Образ отца, старейшин… Всегда находился кто-то, желавший её укротить, запереть, сломать. НЕТ. Больше никогда.
Зверь внутри завыл в унисон с её собственным протестом.
Герхард сделал шаг вперёд, его движение было лишено агрессии, лишь уверенная эффективность. Он уже видел траекторию её захвата.
— Нет, — прошептала она. И это было тихо, но с той окончательностью, что не терпит возражений.
— Кончай упрямиться. Выбора у тебя нет, — бросил Герхард, его рука двинулась, чтобы схватить её за предплечье — быстрым, отработанным движением.
— Я сказала — НЕТ!
Это был не крик, а вопль самой её сущности. И прежде чем его пальцы сомкнулись на её руке, она рванула с места с нечеловеческой скоростью, которую дарует не ярость, а чистейший, животный ужас перед неволей. Но не на них. И не в лес.
Она помчалась прочь от Фрейхетланда. На восток. В противоположную сторону. Туда, где по словам странствующих торговцев и старого Хаггара, лежали земли Остфара.
Герхард рыкнул и ринулся в погоню, но Альрик жестом остановил его, — Не трать силы. Она выбрала те земли. Рано или поздно голод или сами земли её выбросят обратно. Или её найдёт кто-то менее терпеливый. Тогда мы о ней услышим. — Он повернулся, его тёмный плащ взметнулся. — Идём. В домене и без этого хватает работы.
Они ушли, растворившись в сумерках, как и появились. Двое служителей порядка, для которых она была лишь очередным инцидентом на окраине карты. Иде же мчалась в наступающую ночь, предпочтя голодную свободу сытому рабству. Она снова выбрала Пустошь.ТОМ V: ПОСЛЕДНЕЕ УБЕЖИЩЕ
Тишина Остфара была обманчива. Она не была пустотой; она была густой, тягучей субстанцией, впитывающей звук, запах, саму мысль. Иде замерла в глубине своего скального укрытия, свернувшись калачиком на грубых шкурах. Не спала — состояние, похожее на сон, было лишь погружением в себя, в немое ожидание ночи. Ее сознание, отточенное годами выживания, не дремало. Оно регистрировало малейшие вибрации мира: шепот снега, падающего с ветки сосны, отдаленный вой ветра в расщелинах, тиканье замерзающей влаги в камне.
Именно вибрации она почуяла первой. Не звук. Не запах. Лишь глухое, нарастающее давление в самой кости, смутное чувство смещения пластов реальности. Воздух в логове изменился. Пахучие молекулы, невидимые смертным, закружились в новом, чужом узоре.
Она встала бесшумно, как поднимается дым. Ни одного лишнего движения. Ее ноздри вздрагивали, втягивая воздух, разлагая его на составляющие. Двое. Не люди. Не звери. Нечто иное, проклятое, как и она, но иное по сути.
Они не скрывались. Они просто стояли внизу, у подножия скалы, на опушке леса. Две темные, недвижимые фигуры в бледном свете луны, фильтровавшемся сквозь хвойную чащу. Они ждали. Давали ей понять, что ее нашли. Это был не жест уважения — это была демонстрация превосходства. Кошка, показывающая мыши, что дверь в нору завалена.
Иде не оставалось выбора. Она медленно вышла из грота и стала спускаться по обледенелому склону. Ее ступни находили опору беззвучно. Она остановилась в десяти шагах от них, встала в полный рост, оценивая.
Бруха был приземистым, кряжистым, словно вырубленным из корня древнего дуба. Его кожаный доспех был старым, потрескавшимся, покрытым слоями грязи и запекшейся крови. Лицо, изборожденное шрамами и вечной свирепостью, смотрело на нее взглядом, в котором не было ни любопытства, ни злобы — лишь профессиональная оценка скота на убой. Его пальцы, толстые и неуклюжие на вид, непроизвольно сжимались, будто ощупывая воображаемую шею.
Ассамит был его прямой противоположностью. Высокий, худощавый, закутанный в темные, простые ткани, которые сливались с тенями. Его лицо было скрыто глубоким капюшоном, и лишь изредка из-под него виден был острый, бледный подбородок и тонкие, бескровные губы. Он не двигался. Не дышал. Он был статуей, воплощением безжизненного ожидания. Его руки, скрещенные на груди, были спрятаны в длинных рукавах.
Молчание затянулось. Его нарушил Бруха. Его голос был низким, хриплым, похожим на скрежет камня по камню.
— Ну что, дикарка. Нагулялась? — Он не спросил, а констатировал. — Пришли по тебе. Кончай упираться.
Иде не ответила. Она просто смотрела, вычисляя углы атаки, расстояние до деревьев.
— С тобой говорят, тварь, — рыкнул Бруха, сделав шаг вперед. Снег хрустнул под его тяжелым сапогом. — Ты что, языка лишилась в своих пустошах? Или кишки наружу вырвем — тогда вспомнишь, как с сородичами говорить надо?
Ассамит, не двигаясь, издал тихий, шипящий звук. Не слово, а скорее предупреждение. Бруха на мгновение замолчал, но его плечи все еще были напряжены от готовой вырваться ярости.
Тогда заговорил Ассамит. Его голос был безжизненным, монотонным, лишенным каких-либо интонаций. Он звучал так, будто доносился из глубокого колодца.
— Твое присутствие здесь нарушает тишину домена. Твое неподчинение — ошибка. — Он не смотрел на нее, его взгляд, казалось, был устремлен куда-то в пространство за ее спиной. — Ты будешь доставлена. Добровольно или нет. Выбор за тобой. Но он влияет только на количество твоих страданий по дороге.
Иде наконец разжала губы. Ее собственный голос прозвучал низко и хрипло, но твердо.
— Я никуда не пойду. Ваш домен… ваши правила… меня не касаются. У меня свои.
Бруха фыркнул, и из его ноздрей вырвалось облачко пара.
— Свои? Какие у тебя, у бродячей шавки, могут быть правила? Правило первое: сожрать, пока не сожрали тебя? Так мы и пришли. Пора бы уже понять, кого тут жрут, а кого — жрут.
— Тебя не будут судить, — продолжил Ассамит, все так же бесстрастно. — Тебя просто устранят. Как помеху. Как шум на окраине карты.
— Так что давай, сучка, — Бруха сделал еще шаг, его массивная фигура заслонила лунный свет. — Покажем, как у нас тут «шум» устраняют. Я обещаю, будет больно. Мне — весело.
Иде почувствовала, как по ее спине пробежал холодный, знакомый ужас. Не страх смерти — страх клетки. Страх того, что ее снова попытаются сломать, приручить, поставить на цепь.
Зверь внутри нее зарычал в унисон с ее протестом.
Бруха, видя ее колебание, рванулся вперед. Его движение было не быстрым, но невероятно мощным, подобным лавине. Он не пытался схватить ее — его рука, сжатая в кулак, летела в ее голову с намерением размозжить кость.
Иде отпрыгнула назад с нечеловеческой скоростью, но Ассамит был уже там. Он не нападал. Он просто… оказался на ее пути отступления. Его тонкая, бледная рука метнулась вперед, не для удара, а для точного, молниеносного захвата ее запястья. Его прикосновение было ледяным и цепким, как стальная удавка.
— Неверный выбор, — прошипел он без эмоций. Иде рванулась, пытаясь высвободиться, но пальцы Ассамита впились в ее плоть с силой. Боль, острая и унизительная, пронзила ее.
Бруха, не попав с первого раза, лишь ухмыльнулся, — Держи ее, тень. Сейчас я ей все кости пересчитаю, — он снова пошел на нее, широко расставив руки для захвата. И это было ошибкой. Унижение, боль и ярость слились в ней в единый, белый взрыв. Она не стала вырываться из хватки Ассамита. Вместо этого она использовала его как точку опоры, с силой оттолкнувшись ногами от земли и запустив всем телом в наступающего Бруху.
Они с грохотом свалились в снег. Иде, ослепленная яростью, впилась клыками в шею Брухи, но ее зубы скользнули по его огрубевшей, как дубленая кожа, шкуре. Он оглушительно рассмеялся под ней, — Ах ты сучка драная! — Его кулак обрушился на ее ребра. Раздался глухой хруст. Боль, острая и пьянящая, пронзила ее. Она зарычала, пытаясь дотянуться до его глаз.
И тут хватка на ее запястье ослабла. Ассамит, видя хаотичную драку, отпустил ее, отступив на шаг. Его работа была сделана — он ее остановил. Теперь это была задача Брухи.
Иде использовала момент. Она откатилась от ошалевшего от ярости сородича, поднялась на ноги, чувствуя, как сломанное ребро болью отдает в каждый мускул. Кровь текла из ее рта, где она прикусила губу.
Бруха поднимался, его рык обещал немедленную и мучительную смерть.
Она посмотрела на них — на этих двух монстров, пришедших нарушить ее покой. На грубую силу одного и бездушную эффективность другого.
— Охота, — прохрипела она, выплевывая на снег сгусток черной крови. — Вы пришли поохотиться?
Затем она повернулась и прыгнула в густую тень под низко растущей елью. Не побег. Приглашение. Вызов.
Глушь леса разорвал яростный, победоносный рев Брухи, — ДЕРЖИ ЕЕ!
Тишину нарушали лишь две пары шагов, бесшумно разрезающих влажную прель лесной подстилки. Они не преследовали — они направляли. С холодной, нечеловеческой точностью хирурга, ведущего скальпель по намеченному контуру.
Иде мчалась сквозь чащу, её тело, пронзённое болью от сломанного ребра, работало на чистом инстинкте, на грани исступления. Каждый толчок ноги о замшелый валун отдавался в костях глухим эхом, заставляя её сознание мигать, как догорающая свеча. Она не оглядывалась. Видеть их — значило признать неизбежность.
Бруха шёл первым, занимая центральную позицию. Его преследование было не бегом, а актом тотального уничтожения, демонстрацией грубой силы. Он не обходил препятствия — он стирал их в труху, ломая молодые сосны и отшвыривая камни, словно пушинки. Его ярость была осязаемой, физической силой, сдвигающей воздушные массы. Он создавал шум, хаос, давление, загоняя её паникой вглубь леса, как загонщик на облаве.
Ассамит был его тенью, его антиподом. Он не ломал лес — он становился его частью. Иде не слышала его, не видела в прямом смысле. Лишь краем обострившегося до предела восприятия, дарованного Дикостью, она улавливала мелькание — неясный силуэт, проплывающий в периферии зрения, всегда на одной и той же дистанции, фланкируя её, отсекая пути к отступлению. Он двигался бесшумно, используя малейший шум, создаваемый Брухой, для маскировки собственных перемещений. Его молчание было хуже рёва Брухи — оно говорило о полном, абсолютном контроле, о том, что её побег является иллюзией, разрешённой лишь на время.
И тогда, сквозь боль и адреналин, в её сознании вспыхнула холодная, кристально ясная мысль, рождённая не разумом, а древним звериным чутьём: Ведомость. Их движения, их давление — всё было рассчитано не для поимки, а для направления. Они, как опытные загонщики, вытесняли её с знакомых троп, отсекая пути к руинам замка или людским поселениям. Они гнали её на восток. В сторону, от которой её внутреннее нутро, её проклятая кровь сжималась в ледяной ком.
И она почуяла ЭТО.
Сначала носом — сменивший привычный запах хвои, влажной земли и гниения новый. Сладковато-приторный, тяжёлый, звериный, с примесью старой крови и дикого мускуса. Он висел в воздухе, как миазм над болотом. Затем — кожей. Давление изменилось. Воздух стал гуще, сопротивляясь бегу, словно он был наполнен невидимой, вязкой субстанцией.
И наконец, потоком Прорицания — едва уловимое, но оттого более жуткое давление на самое нутро её существа. Древнее, дикое, абсолютно чуждое дисциплинированной, структурированной тьме вампиров.
Сама она всегда чтила эти незримые границы. Чуяла их за версту и обходила стороной, ибо знала — там правят иные, простые и безжалостные законы плоти и когтя. Войти туда значило добровольно стать дичью в самом примитивном и кровавом смысле.
Но выбора не было. Ловушка захлопнулась.
Она рванула резко влево, под низко нависшую, похожую на лапу ветвь старой ели, и кубарем скатилась в промоину, заполненную ледяной талой водой и липкой грязью. Ледяная жижа обожгла кожу, хлынула за воротник. Она не обратила внимания, вынырнула с другой стороны, цепляясь окровавленными когтями за скользкую глину, и побежала дальше, глубже, в самое сердце чащи, откуда несло тем звериным смрадом.
— Куда, дикарка? — донёсся сзади хриплый, полный ярости и внезапного прозрения голос Брухи. В нём впервые прозвучало нечто, помимо гнева, — холодная струйка осознания. Он остановился на границе, чувствуя ту же опасность. — Своих же в пасть тащишь! Они тебя на клочья порвут!
Она не ответила.
Ассамит, наконец, материализовался из тени рядом с Брухой. Он не издал звука, лишь слегка повернул голову в сторону сородича, и этого было достаточно. Бруха, рыча что-то нечленораздельное под нос, сделал шаг назад, его свирепая уверенность сменилась настороженной готовностью к бою.
Иде не стала смотреть, что происходит. Она вдавилась в гнилой, трухлявый ствол упавшего дуба, покрытый мхом и лишайником, стараясь стать его частью. Позади, на границе территории, разверзся хаос, сравнимый со схлопыванием двух стихий. Оглушительный рёв Брухи, полный не столько боли, сколько неистовой ярости от новой, неожиданной угрозы. Свист когтей, рассекающих воздух. Глухой, влажный стук массивных туш, бьющихся о стволы деревьев.
И… тишина Ассамита. Самая пугающая. Он не кричал. Не рычал. Он работал. Слышался лишь редкий, сухой, отчётливый хруст ломаемой кости, чавкающий звук разрываемой плоти и после — короткий, булькающий предсмертный хрип. Он не вступал в открытое противостояние. Он отступал в тени, появляясь лишь на мгновение, чтобы нанести точный, смертоносный удар по самому уязвимому месту — подколенным сухожилиям, шее, глазам, — и снова раствориться, пока Бруха принимал на себя основной яростный натиск хозяев леса.
Но даже их смертоносной эффективности было недостаточно. Оборотней было больше. На много больше. Их ярость была слепой, всепоглощающей, не знающей страха. Это была не битва, а природный катаклизм.
Иде использовала эту дарованную кровью и болью передышку. Она поползла, не вставая, от дуба, углубляясь в чащу, оставляя позади звуки первобытной резни. Её ребро ныло огненной болью, каждый мускул горел. Она заставляла себя двигаться, ползти, перекатываться — беззвучно, медленно, как тварь, как слизень, уползающий с поля боя.
Рёв Брухи и беззвучная смертоносность Ассамита стали отдаляться, сместившись вглубь территории оборотней. Они были отвлечены, но не побеждены. Они были слишком ценными инструментами, чтобы пасть так легко.
Она шла ещё долго, ориентируясь по бледным, искажённым хвойным пологом звёздам и по внутреннему, неумолимому компасу, что всегда вёл её к воде. К океану. К единственному возможному, пусть и отчаянному, выходу из этой ледяной преисподней.
Порт встретил её вонью — не просто запахом, а миазматической атмосферой, состоящей из сладковатого духа гниющих водорослей, едкой смолы, прогорклого рыбьего жира и спёртого, густого человеческого пота. Небольшой, грязный, он ютился у подножия чернеющих на фоне ночного неба скал, словно струп на теле земли. Несколько утлых судёнышек, больше похожих на гробы, покачивались у ветхих, подгнивших причалов, их снасти поскрипывали, как кости старого скрипача.
Её взгляд, отточенный веками охоты, мгновенно выхватил нужное судно. Бриг. «Утренняя Звезда». Он был больше, крепче, чернее других. От него исходил не только запах смолы и солёного ветра, но и едва уловимый, знакомый до дрожи аромат — запах страха, отчаяния и чего-то тёмного, древнего, что лежало в его трюмах и манило её, словно родственная душа.
Она замерла в тени сложенных горкой бочек с солониной, её тело слилось с темнотой. Команда, грубая, потрёпанная жизнью и морем, ещё копошилась на палубе при тусклом свете висящих фонарей, готовя судно к отплытию на рассвете. Грубая музыка и пьяные, нечленораздельные крики доносились из утробы злачной таверны «Трескающийся котёл» — большинство матросов находились там, топя в хмеле предотъездную тоску.
Иде ждала. Её терпение, выкованное в ледяных пустошах Скральдсона, было безграничным. Она стала тенью, частью ночи, безмолвным, недышащим наблюдателем.
И тогда она почуяла их. Сначала Бруху. Его грубый, звериный дух, теперь примешанный к запаху свежей крови, грязи и ярости. Он шёл по причалу, его шаги были тяжёлыми, нервными. Его одежда была изорвана, на лице и руках виднелись свежие, глубокие царапины, уже медленно затягивающиеся. Он вёл себя как раненый медведь — яростный, опасный, но осмотрительный. Он обыскивал доки, заглядывал под мостки, ворочал бочки своим могучее телом. Он искал её методом грубой силы, рассчитывая выкурить или выгнать её на открытое пространство.
Затем, словно из самой тени, возник Ассамит. Он был безупречен. Ни пятнышка крови, ни намёка на усталость или повреждения на его тёмных одеждах. Он не искал. Он наблюдал. Стоял неподвижно в глубокой тени у склада, его взгляд, скользящий и безразличный, методично сканировал территорию, вычисляя логику её возможного укрытия, анализируя каждый закоулок, каждую потенциальную лазейку. Он был холодным, бездушным сканером, ищущим аномалию в привычном пейзаже.
Иде затаила дыхание. Её серая мгла Дикости была хороша против смертных, но против сородичей, знающих её природу, это была лишь временная мера.
Бруха, не найдя ничего, в ярости пнул пустую бочку, отшвырнув её в воду с оглушительным всплеском, — Вылезай, тварь! — прохрипел он, обращаясь к теням. — Кончай прятаться! Я тебе всю эту помойку с корнем вырву!
Ассамит, не двигаясь, издал тот самый, едва слышный шипящий звук. Приказ замолчать. Бруха замолчал, но его плечи напряглись от непролитой ярости.
Иде увидела свой шанс. Её путь к трапу «Утренней Звезды» был на мгновение свободен. Бруха отвлёкся, Ассамит был на другом конце причала.
Она двинулась. Не к трапу. К самому борту корабля. Это был долгий, отчаянный прыжок через полосу чёрной, маслянистой воды, пахнущей гнилью.
Её тело ударилось о твёрдые палубные доски с глухим, костоломным стуком. Боль пронзила её белым светом, и сознание на мгновение уплыло в никуда. Она лежала, не в силах пошевелиться, слушая топот ног, удивлённые выкрики матросов и скрип подходящих сапог.
Подняв голову, залитую потом и кровью, она увидела их.
Бруха замер у кромки воды, его лицо исказила гримаса чистой, немой ярости. Он сжал кулаки, и из его грувырвался низкий, яростный рёв бессилия, увидев недосягаемую теперь добычу.
Ассамит же просто появился рядом с ним, словно возник из воздуха. Он не выражал никаких эмоций. Его скрытый взгляд был устремлён на неё. Он медленно, почти незаметно, покачнул головой из стороны в сторону. Не угроза. Констатация факта. Неудачно. Но не конец. Затем он повернулся, его тёмная фигура начала растворяться в тенях порта, уводя за собой ещё рычащего Бруху. Их работа здесь была закончена. Охота провалилась, но охота — вечна.
Корабль, подхваченный отходящим течением и внезапно надувшимися парусами, дрогнул и медленно, неумолимо начал разворачиваться, отдаляясь от доков, унося её в чрево непредсказуемой стихии.
Иде отползла вглубь палубы, в спасительную, воняющую крысиным помётом и солёной водой темень между грузовыми люками. Скользкие, липкие доски стали её новым, тесным миром. Она прижалась спиной к холодному, обледеневшему металлу надстройки, позволив себе затрястись — не от страха, а от леденящего, абсолютного осознания.
Она сбежала. Но она лишь обменяла одну клетку на другую, тесную, душную, скрипучую, несущую её через безжалостную, равнодушную пустоту океана в самое сердце неизвестности. Даже здесь, в этой деревянной темнице, плывущей по воле слепых волн, она оставалась хищником. И океан, что раскинулся вокруг до самого горизонта, был всего лишь новой, бескрайней охотничьей угодью. Охота, погоня, бегство — всё это было её сутью. Её проклятием. Её вечностью.
Последнее редактирование: