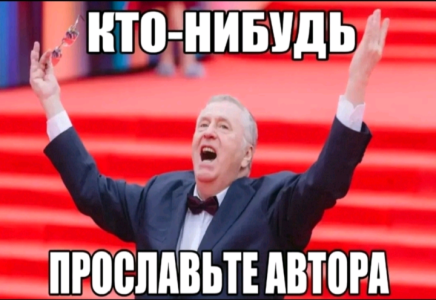— 『 𝟙 』Имена персонажа: Серафим Искариот
OOC: Serafim
Серафим — истинное имя Воителя.. Данное ему при рождении..
Искариот — Фамильное дарование доставшееся в наследство от своих Эльфийских предков.
— 『 𝟚 』Расовая принадлежность: Анар’дорайский (высший) морфит
— 『 𝟛 』Возраст: 215
— 『 𝟜 』Внешность персонажа:
Искариот не был эталонным рыцарем, аль героем сказок. Он бы простым бродягой, от того и выглядел подобно всяким убогим. Вечно замызганное грязью одеяние, от коего дурно несло за версту. Спутанный, длинный, белый влас и заостренные уши, были единственным напоминание о природной красе своего народа. Питался он скверно, от чего был весьма худощав, но при этом
жилист. Все его тело стало храмом боли и прожитых моментов - оно было усыпанно множеством шрамом и ожогов, что в прочем для его рода деятельности не было чем-то сверхъестественным, скорее очередным напоминанием о том, кто он есть на самом деле. На фоне всего прочего выделялись светло-зёленые очи. Из-за вечных скитаний и собственного нежелания следить за собою, он частенько отпускал густую бородку на своей морде.
— 『 𝟙𝟘 』Характер персонажа:
Характер у Серафима весьма скверный. Долгие годы на тракте привели его к тому, что чувства вовсе затупились об смрад и кости бестий им умерщвлённых. Однако нельзя сказать, что ничего не чувствует, скорее наоборот, он весьма эмпатичная личность, пусть и скрывает всё это под маской профессионализма. Ему небезразличны жизни всех тех убогих и нищих, за чьи заказы он брался, беря скорее символическую плату. Он был по своему добр ко всем, но не знал как именно нужно показывать свою доброту и как правильно выражать те или иные эмоции. Его учили сотням ударов, приёмов и уловок, но никак не простым житейским мудростях, от того он и выглядит весьма странно на фоне остальных. При всём этом он обладает вполне неплохими коммуникационными качествами.. Но зачастую принимает сторону слушателя, нежели рассказчика. Ныне он находится в крайне печальном состоянии, пусть и раны его начинают затягиваться.. Душевную боль он сменил постоянной работой.. В какой-то степени это ему помогало, но лишь в моменты когда адреналин бил ключом, в момент азарта при выслеживании той или иной бестии - он ощущал себя по настоящему живым.
— 『 𝟙𝟘 』Характер персонажа:
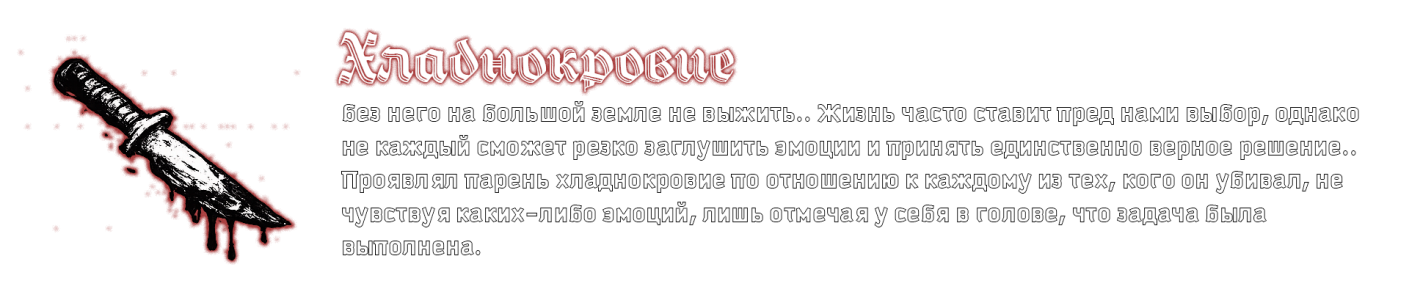
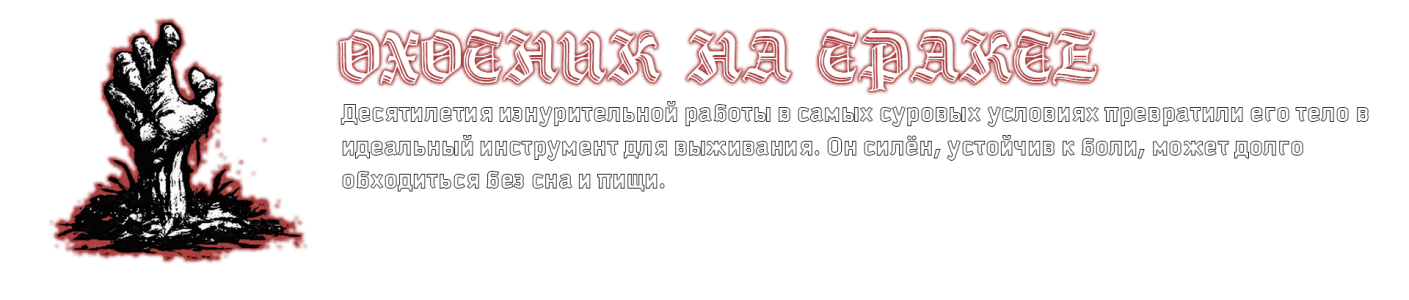
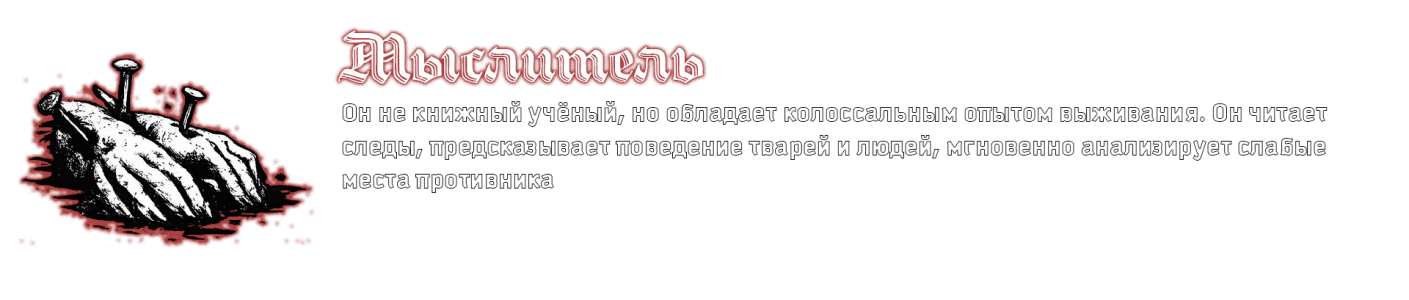
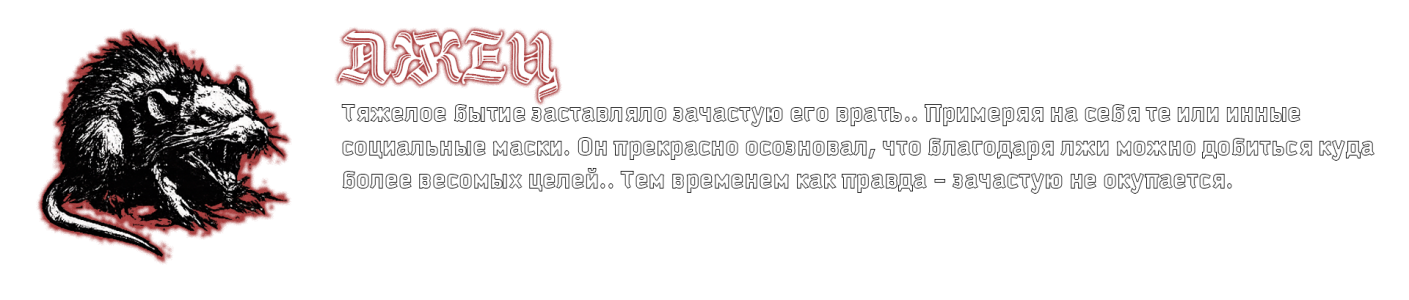
— 『 𝟙𝟘 』Характер персонажа:
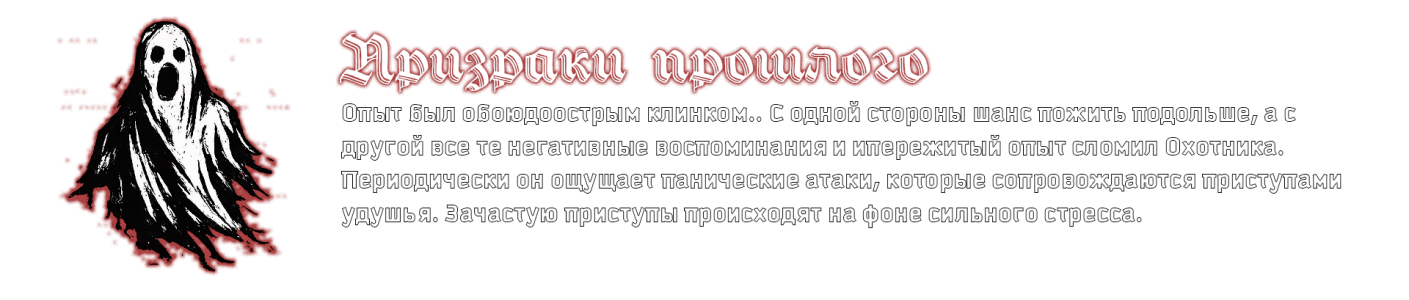
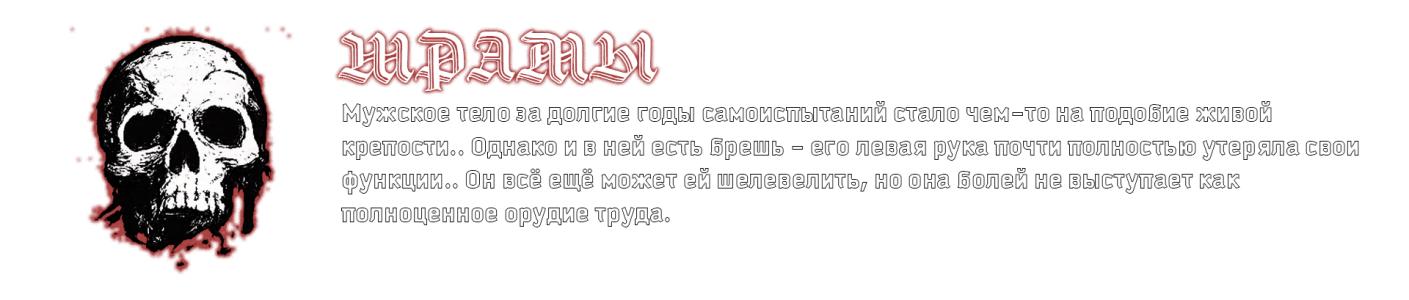
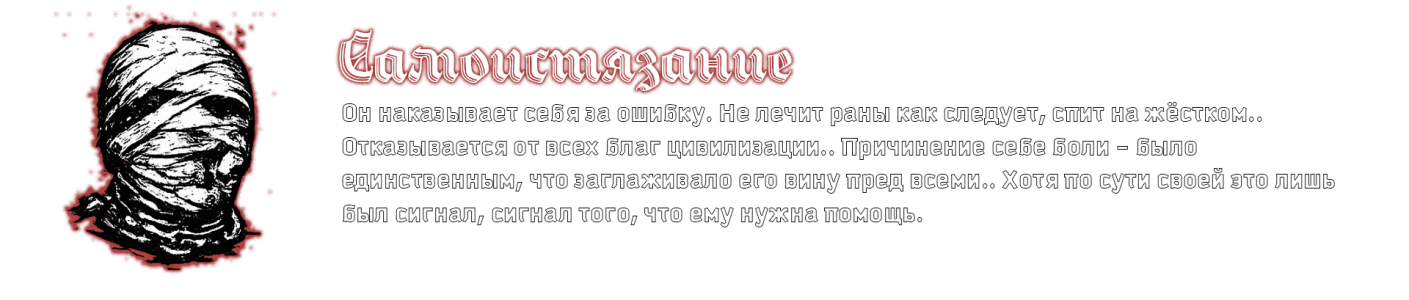
— 『 𝟙𝟘 』Привычки: отсутствуют
— 『 𝟙𝟘 』Мечты, желания, цели: отсутствуют

В трюме, среди бочек с солониной и тюков с шерстью, сидели Амуил и Аврелия. Тряска судна повергла их тела в произвольный пляс
— Он довезёт. — “тихо сказал Амуил, обнимая за плечи дрожащую Аврелию.” — Борэн честен. Он не любит лишних вопросов. Деньги замолчали всё, что нужно.
— А если… если они догадаются? Если спросит у Борэна? — “её голос был едва слышен сквозь скрип мачты и рокот волн.”
— Тогда Борэн пожмёт плечами и скажет, что отвёз нас на материк по нашему желанию. Что мы хотели начать новую жизнь. И это будет правдой. А дальше… пусть ищут. Континент — не остров. Там можно затеряться.
Она прижалась к нему, положив руку на живот. Внутри по-прежнему клубился ужас той ночи, но теперь к нему добавилась горечь предательства. Они предали свой дом, свой закон, своих богов. Они уплыли с острова не как герои, а как воры, укравшие самих себя у своей судьбы. Но отчего два Морфита решили покинуть свою обитель?
Элрон, сын одного из власть имущих, домогался до Аврелии. Он решил, что она должна стать его наложницей — по праву сильного и знатного. В день, когда Амуил был в дальнем лесу, Элрон явился к ним с двумя своими дружками. Они принесли «подарок» — ожерелье, знак «особой милости». Когда Аврелия отказалась, Элрон, пьяный и разъярённый, ударил её. А потом сказал, что завтра придёт снова, и Амуилу лучше «не попадаться на глаза».
Амуил вернулся на рассвете. Увидея синяк на лице жены и услышав её тихий, безнадёжный рассказ, в нём что-то переломилось. Он знал, что жаловаться бесполезно. Знал, что Элрон не остановится.. Знал, что их жизнь на острове кончена в любом случае — либо позором, либо смертью.
Он пошёл на берег, к Борэну, чей когг как раз готовился к утреннему отливу с грузом древесины на материк. Между мужчинами состоялся короткий, тяжёлый разговор без лишних слов.
— Мне нужно уплыть. Сегодня же. С женой. Навсегда, — сказал Амуил, глядя в глаза капитану.
— Проблемы с Элроном? — устало спросил Борэн.
— Да. Такие, что обратной дороги нет.
Борэн помолчал, оценивая. Потом кивнул.
— Места в трюме есть. Стоит дорого.
— У меня есть деньги. И мой лучший инструмент — набор резцов с обсидиановыми наконечниками. Он твой.
Сделка была заключена. Они вернулись в хижину, собрали самое необходимое. Амуил взял с собой только деньги, спрятанные на чёрный день, тёплую одежду и свой второй, стальной топор. И нож. Длинный, крепкий нож для разделки рыбы.
Элрон пришёл вечером, как и обещал, один, уверенный в своей безнаказанности. Он даже не успел удивиться, увидев Амуила. Тот вышел ему навстречу во двор. Ни крика, ни угроз. Просто шагнул вперёд, и в его руке сверкнул не топор, а тот самый нож. Удар был быстрым, точным и смертельным — под ребро, удар разорвал сухожилия и нагромождение мышц, прорвавшись к сердцу. Элрон рухнул, даже не поняв, что произошло, его наглое выражение лица застыло в удивлении.
Амуил не стал прятать тело. Он оставил его лежать там, где оно упало.. Он вытер нож об траву, забрал Аврелию, и они бегом спустились к ожидавшему судну. Когг отошёл от берега в кромешной тьме, без огней. Когда на острове подняли тревогу, на горизонте уже виднелась лишь полоска зари, скрывавшая беглецов.
Между замызганных и выжженных полей умерщвленных тел.. Между смрадом обглоданных местным зверьём костей.. Меж сотен почивших людей, вдоль выжженной лесной полосы шла двоица. Хладные капли дождя обрамляли тонкой, мокрой пеленой их усталые и изможденные от долгого похода туши. В атмосфере завывали приближающиеся северные ветра, подразумевающие смену поры времени.. Хлад опоясывал их столь небрежное одеяние, что застало все те ужасы, что учинили людские твари..
— Амуил.. Я.. Очень устала, я больше не могу идти.. — “Вдруг послышался женский глас из-под тканного капюшона.”
— На-ам.. Нужно.. Нужно идти дальше, моя дорогая, вытерпи все те невзгоды данные нам Аэландором.. — “Ответил мужчина деве, кою он придерживал под руку.. В его голосе читалась столь сильный испуг и переживания за состояние своей спутницы, зенки то и дело хаотично бегали по её туловищу, желая перебрать на себя часть данной ей ноши.”

— Амуил.. Прошу.. Скажи мне не кривя душой, мы ведь идём с тобою в пустоту.. Нас там не ждут, а напротив погонят. — “Женский голос подрагивал.. Едва слышимый от стука сапог проносящихся по грунтовой дороге, припорошенной смачно ново образовавшимися лужами, он всё сильнее и сильнее вжималась своими аккуратными и нежными ладонями в локоть суженного, вот-вот и сил бы не осталось вовсе.”
— Аврелия.. Мы с тобой уже всё обсудили, я лишь хочу покоя нашего семейства, назад дороги нет, ты сама видела..
Двоица вскоре двинулась далее, оставляя своё прошлое, безмятежное бытие где-то там — за горизонтом.. Гонимые ужасами людской терании, в поисках светлого будущего.
Какое-то время они все ещё шли, пока на их пути вдруг не явился людской гарнизон.. Среди срубленного леса востилались массивные копья, выступавшие забором. На двух смотровых вышках вдруг послышался крик со свистом в перемешку.. В сокрытом от чужих глаз остроге началась суматоха перетекающая в звуки массивных стальных сапог. Громоздкие врата стали отчиняться, открывая пред двоицей Морфитов вид на внутренний двор военного сооружения людей. Из-за врат вдруг вышло с десяток снаряженных латников, в Авангарде шла троица самых массивных людских отпрысков со щитами на перевес.. Они надвигались прямиков в сторону испуганный и уставших Морфитов.. Заслоняя свою же девишну спиною, Амуил ступил вперёд, попутно наказав Аврелии не сдвигаться с места своего и по случаю чего — бежать.. Бежать как можно быстрее.
— Кто таков будешь?! — “Грубый и усталый голос прорезаться стал меж забрал воителя в слегка потертом снаряжении.”
— Я прошу вас.. Выслушайте нас, милостивые господа, не сочтите за грубость мою просьбу.. Мы не желаем воины и не желаем равным счётом драться с вами.. Я тут один со своею суженой.. Нам нужно тёплое питьё и еда.. И проход — проход на ваши земли. — “Морфит гласил громко, кабы его было слышно всем, но его речитатив перебил ужасающий гогот вышедшего вперёд Авангардиста.”
— Что-то новое.. Коль вы бежите с тех земель, небось длинноухие?! Ды-ык.. Пиздуйте к своим, коль жрать охота, на кой идти к нам? Я отпускаю вас, можете ступать, однако болей не звертайтесь до нас, а коль вернетесь, ваши уши станут очередным трофеем приколоченным к стене наших врат. — “В голосе Латного воителя слышалась явная насмешка, он надвигался в сторону Морфита, как и сам длинноухий.. Как только те стали на расстояние вытянутой руки, Морфит покорно склонил свою голову, молвя то уже заметно тише.”
— Нам болей некуда идти.. Ваши воители сожгли до тла наше поселение, разграбив то попутно.. Моя жена.. Мы ждём ребёнка и не хотим растить его в атмосфере ужаса и страха пред величественным людским народом. Я и сам был воителем, но ушёл.. Я покинул своих собратьев.. Прошу примите нас в ваши ряды.. Прошу.. Смилуйтесь. — “Было видно как тяжело было говорить эти слова мужчине.. Его Морфитская гордость, известная по всему миру, рушилась с каждым лестным словом в сторону стоящего пред ним щитоносца.”
— Пустить вас на наши земли?.. — “Латник заглянул за спину Морфита, внимая очами своими на прекрасную девишну, стоящую в паре десятков метров от их диалога.” — Зови её сюда..
— Аврелия! Поди сюда! — “Вскрикнул вдруг “бывший воитель” Морфитского народа.. Его девишна аккуратными же шажками перебирала ногами меж грязью и лужами, настигнув в конечном итоге двоицы.. Латник приоткрыл свои забрала, оглядывая внимательно тушу женскую.. И вправду, своё внимание он обратил на живот спутницы Амуила, хмыкнув как-то недовольно, он убрал издевательскую гримасу с рожи своей, молвя далей.”
— Вы.. Пойдете со мною.. Но будете заперты за решеткой до выяснения столь.. Скрупулезного вопроса. Помните о моей милости к вам, Морфиты, ведь мне ничего не стоило лишить вас вашего столь долгого бытия.. — “Подозвав весь отряд вышедший за стены, он окружил Морфитов по бокам.. Да после приказа Щитоносца, выдвинулся отряд закованный в металл, с Эльфами по центру за стены острога." Долгое время удержания.. Допыток и людских домыслов.. Сотня бюрократических моментов и идеологических диалогов, но пожалуй это стоило своего результата. У Морфитки уж бы подходили срока, когда их наконец выслали прочь с острога к северу величественной, людской Империи.
По окончанию дрязг и сотен пререканий, девишна уж бы родила сидячи в сырой, промерзлой клетке. Благо неравнодушный люд всё же оказал им помощь при родах.. Но, матушка судьба распорядилась разделить Серафима, коего благо она успела вскормить грудью.. Отца семейства было решено сослать на каторгу, мать же осталась в казематах того людского укрепления и сослужила простой шлюхой для местных воителей.
Юношу же попросту вложили в ткань, да оставили бренное детское туловище лежать на холодном тракте..
Меж завываний ветров послышался разъяренный детский плач. . Шумы ветров становились всё сильнее и сильнее, погода сменяла свой вектор — становилась куда жёстче. Пара капель пала ниц на ткань, в коей был сокрыл Серафим.. Казалось бы вот он конец ещё не начавшейся жизни, но судьба, аль боги распорядились благосклонно в тот раз по отношению к Морфиту.
Чьи-то грубые, стиснутые в кожаные перчатки, руки, аккуратно ухватились за тушу младенца, поволочив его за собою.. Бытие было спасено.
Дождь стал падать гроздями наземь, образуя под тяжелой мужской обувью грязь..
— Шо-сь за люд такой пошёл то.. Дитя выкидывают каля дороги.. — “Произнёс мужичёк, да наконец заступил на территорию острога.”
— Витовт.. Это шо за приблуда у тебя на руках то? — “Вопросило у него мужичьё, что обитало в том остроге.”
— Дык.. Дитё лежит на дороге, плачет.. Хер бы знал на кой облуд взял.. Ну-ус.. Подумал так нужно, а коль уж взял, то и выкидывать как-то.. Неправильно что-ль.
— Ну ты и дуболом.. Кормить-ж его надо. Поить, следить.. Как он средь ебаного бурелома жить то будет? Нам пайки не хватает, дык ты ещё и растущий рот взял..
— Окстись падла! Взял и взял, моё решение таково! Ды-ык.. И я-ж не совсем дурак его тут держать! Сошлю к своей родне, да хай маятсу! Матушке и так делать шибко нехуй на старость гадов, а так хоть оживёт.
Незамысловатый мужчина по имени Витовт и представить не мог какую медвежью услугу он сослужил новорожденному. Всего одно слово, одно решение.. Дало малейший шанс юнцу на то, что его бытие не кончится, так и не начавшись..

Чрез какое-то время Серафима привезли в весьма не примечательную деревушку, коих много. В самое сердце недружелюбных земель Хакмарри.
Деревушка та именовалось в честь растущих на тех землях деревьев — “берёзино”.. Незамысловатое название в точности описывало местный люд.. Столь же простой и практичный.. Прямой и грубый. Искариота поместили в совершенно не ту среду, в коей он должен был бы быть..
Однако по большей части ему ещё свезло, его приняли.. Решили оставить, видать незабытый материнский инстинкт позволил престарелой женщине взять к себе на попечительство длинное создание.
Женщина жила одна.. Муж уж давно сгинул от хвори непонятной. В ребёнке было хоть какое-то утешение, да и дальнейший смысл существования у той появился — ведь родные уж коль и заезжают, только перекантоваться, да пожрать чего вовремя голодухи. Его детство было весьма простым, как и у всех.. Он рос среди таких же детей, порой и длинноухих таких же как он, в атмосфере понимания и заботы от своей “матушки”. Жили они весьма бедно.. Но справедливости ради — Серафима это вполне устраивало, у него был кров.. Хлеб, да и одёжка какая-никакая. На той бренной и треклятой земле — урожая было мало. От того мальчишки, кои вырастали — подавались кто куда.. Кто наймитом, кто грабить. Выхода у людей особого не была, жрать то хотелось всем и всегда, да желательно мясо. От того количество убийств, насилия и прочего в том регионе зашкаливало, что не день, то чьи-то междоусобицы за клок земли, аль за напыщенное уважение. Но Серафим этого не видел, он был слишком мал и рос как и все.. С утра выбегая на грязные улочки, дабы встретиться с такими же как он.. В том возрасте друзей выбирают по принципу: “Ну-ус, коль мы одного роста, то и сойдёмся!” Но Серафим рос куда быстрее остальных.. От того и быстро втясался в местную шпану постарше, коя его и приучала к “взрослой жизни.” Лёгкий разбой, хулиганство.. Шалости и пакости были привычным для него досугом. Пусть и матушка пыталась вталдычить ему правильные мысли, но Искариот никогда не славился своим доброчестивым поведением. Он просто желал быть как и все — не выделяться и получать то, чего не было у остальных, пусть и не самыми добрыми путями. Детское желание не быть изгнанным из компании заставляло его делать весьма ожесточенные действа.. Избиение немощных, воровство того, что по сути и не нужно им было вовсе. Все это было не более чем забава в детских головах.. Но забавы кончались весьма нежданно, час потехи у их тогда, когда великое горе впервые коснулись юного Серафима..
Юный Серафим стремительно перебирал к ногами, от ветра стараясь руками прикрыться.. Шаркая к своему родному двору, он еле отворил калитку, Коя не поддавалась от сильных порывов непогоды.. Заплетающиеся ноги волочили его тело к двери.. Сухой и такой безжизненной. Его мелкая длань прихватилась за дверную ручку и он отворил врата в то месте где он мог чувствовал заботу, ласку.. Где его примут и поймут таким, какой он есть.. Со скрипом половой доски он вошел в халупу.. Всем весом надавив на дверь, он смог её наконец прикрыть.. Ужасы блуждающие где-то за стенами словно болей не касались его, он был спокоен и радостно воскликнул.«Я хорошо запомнил тот день.. Тогда погода была настолько поганной, что мы с шайкой разошлись по нашим халупам раньше обычного.. Ветер гудел так, что в ушах закладывало.. Меня аж подносило ввысь, словно еще чуть и вознесусь к облакам.”
— Матушка! — “снимая заляпанные дерном кожаные башмаки, он двинул далей по хатке и увидал уснувшую на кровати женщину, подарившую ему вторую жизнь.”
Серафим не стал будить и без того болезненную мать. Годы брали своё. Серафим же от незнания того, чтобы ему можно было сделать такого решился попросту возлечь на свое ложе.. Плюхнувшись на кровать, он устало прикрыл свои очи, свесив ручонку с кровати.. Веки становились тяжелее и тяжелее, пока его сознание медленно уходило в чудесный мир снов..
Но вдруг чья-то рука прихватила парнишку за руку! Он вырвался стремглав со сновидений, аж подскочив на кровати.. Утирая заспанные глаза он непонятливо взглянул на знакомого мужичка, что жил в этой же деревушке.. В хатке помимо его стояла еще свора взрослых, что непонятливо перешептывались меж собою, поглядывая то на место где лежала его мать, то на самого Искариота.
— Слышь юнец.. Мх-х.. Уж Извиняй, не умею я говорит все эти речи, твоя матушка.. Она как бы.. Сгинула понимаешь?
Слова вонзились, словно шип из черного железа. Не стрела — шип, потому что застрял в груди и не выходил, а лишь глубже врастал с каждым ударом сердца. Мальчик был еще весь в плену утренней одури, в липкой паутине неразберихи между сном и явью. Разум отказывался складывать звуки в смысл, будто это были не слова, а обломки непонятного языка.
Понять? Какое там понять. Ему бы просто проснуться сперва, стряхнуть этот дурман. Но мир уже не ждал. Суровость бытия, серая и тяжелая, как плащ сторожа, обрушилась на него всей своей мертвой тяжестью. Того, кем держался его маленький мир — не было. Вынули, как сердцевину из яблока. Осталась одна пустота, сквозная и звонкая.
Как втолковать это десятилетнему? Не втолковать. Можно лишь заставить принять, как принимают стужу или голод. Как принимают волчью ягоду, которая обжигает горло горечью. Пусть и не родная по крови, но та, чьи руки были домом, чье дыхание — тихим ветерком в его ночах... Ее «больше нет». И это «больше» растянулось на всю оставшуюся жизнь, стало бесконечным коридором из холодного камня, по которому теперь предстояло идти в одиночку. Уют сгорел в одночасье, будто лучина, и только пепел остался на губах. Но беда всегда приходит не одна.
После гибели Марии, все те, многочисленные дети вернулись в родное селение, дабы прибрать к себе жильё, на кое имели право по крови. Искариота попёрли прочь. В семейных дрязгах для него не осталось места.. Обездоленный и обескровленный юнец поплелся по деревне стуча во все закрытые двери.. Хрупка, мелкая ручонка билась в древесину.. Глухой стук проходился по хатам, но на его просьбы и мольбы — никто не откликался. Он был брошен и болей никому не нужен.. Даже той своре, коих он считал своими друзьями.. И те лишь отшутились, мол отныне он убогий.. А убогие — нерукопожатные.
Холодный ветер, пахнущий хвоей и гниющим буреломом, гнал его все дальше от края деревни. Он уже не видел дымов из труб. Под ногами хрустел не утоптанный наст, а хворост и прошлогодняя хвоя. Лес стоял стеной — темной, молчаливой и равнодушной. Он был уже не тенью, а зверьком, раненым и затравленным, инстинктивно ищущим, где заглохнуть. Заполз под вывороченные корни огромной ели, в пещерку из спрессованной земли и паутины, и замер. Слез не было. Была только всепоглощающая, оглушающая тишина, гулкая, как в огромной раковине, прижатой к уху. Тишина, в которой наконец прозвучало то самое «нет».
Именно там его и услышали.
Не шаги, нет. Сначала он уловил смутное движение в воздухе — не ветер, а чье-то осторожное, настороженное присутствие. Потом — едва различимый скрип кожи и металла. И запах. Запах потного коня, дыма холодного костра, промасленной стали и чего-то еще — терпкого и горького, как полынь. Запах дороги и крови.
Из-за ствола сосны, бесшумно ступая по снежной целине, вышел человек. Он не выглядел большим, скорее жилистым и собранным, как туго скрученный канат. Лицо скрывал глубокий капюшон и тень от низко надвинутой железной налобной пластины старого шишака. На нем была не кольчуга, а простеганный, местами пропитанный воском дублет, темный от грязи и потертый на сгибах. За спиной торчала рукоять тяжелого тесака, а у пояса висели мешочек, фляга и короткая, убийственно простая киянка из черного дерева.
Человек остановился в трех шагах и долго, не двигаясь, смотрел на него. Не на мальчика — на убежище. На следы. На пространство вокруг. Глаза, блеснувшие из тени капюшона, были плоскими и спокойными, как у лесного волка, оценивающего обстановку.
— Ты что ещё за ебень таков будешь? — “Мужчина сказанул, как отрезал. Суровый говор обдал юнца.”
— А-а?.. Я.. Я не знаю.. — “Юнец и вправду не знал что отвечать на подобное вопрошение.”
— Чьих будешь?.. Где твоя хата? Аль ты беспризорник? — “Мужчина был уж больно холоден, спрашивал чётко и ясно.”
— Беспризорник. — “Кратко ответил Искариот на вопрошание мужское.”
— Эво-о как.. И чего ты тут делаешь средь леса? — “Вновь прозвучал вопрос.”
— А вы? — “Серафим задал закономерный вопрос.”
— А ты не совсем безнадежен как я погляжу.. Язык за зубами держать умеешь. Умный хлопец. — “Мужичка видать позабавил ответ юнца, от чего тот стал лояльнее и более избирательным в своих последующих словах.”
— Дык всё-ж.. Чего ты тут делаешь? Коль примерз — пойдём у кострища отогреешься, да хоть водицы напьёшься.. Там и расскажешь мне, чего приключилось с тобою.
Вскоре двоица оказалась подле медленно разгорающегося костра. Лёгкий ветерок меж деревьев направлял на Серафима изданное огнищем тепло.. Он выставил две миниатюрных ручонки к костру. На улице уже смеркалось.. А в лесу и вовсе далей трёх сосен ничего не видать. Мужчина уселся на пень, да казалось бы стал ждать, пока юнец сам заговорит, вскоре это и произошло.
— Матушку мою только схоронили.. А с хаты вовсе выгнали.. Мол.. Пущат не будут.. А я шо-сь.. Я люд маленький.. Сказали не вяртаться.. Ды-ык.. Я и не пошёл обратно.. — “Серафим гласил то с дрожью в голосе, всё же шоковое состояние не позволяло ему трезво оценить ситуацию, в коей он оказался прямо сейчас.”
— И ты шо? Не вернулся? Кабы мне такое наказали, я бы им глотки то повспарывал.. Пиздёнышь, в этой жизни либо ты — либо тебя.. По другому не бывает. Ты уже здоровый лоб.. Не льсти себе, мол мал и глуп и не видал больших залуп. Я в твоих годах уж-бы на дела ходил.. А не нюни расспускал. Таких как ты много.. А хто-сь вовсе заболел, аль без рук и ног. . Тебе ещё свезло. — “Мужчина холодным взором своим вновь обрамил юнца, да после свёл его к огню, что уж разгорелся наконец.”
— И.. Как мне жить то теперь? Тятьки нет.. Да и не знаю хтось он был.. Матушку схоронили, дык и не родная она мне была. Хаты нет, монет нет.. Хрючева нет.. — “Паник юнец, наконец он стал понимать всю тяготу свалившейся на него ответственности. Теперь он сам волен строить свою жизнь.”
— Да-а.. Ситуация дерьмо — полное дерьмо. Теперь ты сам по себе. Коль сильный — сам проживёшь, коль слабый — к сильному прибьёшься. Я могу лишь предложить тебе пойти со мною.. Жрать будешь то, что останется у костра. Все мои просьбы ты так же будешь выполнять.. Принеси-подай, понимаешь? Взамен ты получаешь себе спутника. Ды-ык, какой решение ты примешь?
— … — “Юнец промолчал.. Он задумался на какое-то время.. Но решение было лишь одно, он ведь болей и не знал куда ему податься, вариантов не было.. Оставалось лишь..” — Я с-согласен.. Но.. Кто вы? И-и.. Куда мы теперь?
— Куда? Кабы я знал юнец.. Я просто ступаю по тракту в поисках лучшей жизни.. На тракте часто встречаются такие же как “я”.. Но бывает сволота и похуже.. Совсем беспредельничают. Коль ты помрёшь на пути со мною, горевать я шибко не буду.
— Ды-ык.. Вы не ответили дядь.. А хто вы? — “Юнец вновь задал вопрос.”
— Да-а.. Всё же ты не глуп, может и проживешь подольше, увидишь побольше.. Только ты свой разум шибко не показывай.. Лучше пусть думают, что ты дурак.. С дурака — спроса меньше. Мх-х.. А я юнец вольный человек.. Выполняю всяческого рода поручения от толстосумов и местных бояр, да панов. Нечистоту я режу, всяку ту падаль, шо люду простому жить мешает.
— Нечистоту? — “С неким интересом в глазах вопросил юноша.”
— Именно. За долгие годы, как я хожу-брожу по большаку, я видел всяческое дерьмо.. Оно нас окружает.. Следит за нами в тенях стволов деревьев.. Ты никогда не знаешь, когда на твоем жизненном пути явится какая-нибудь бестия, аль прочая приблуда.. Их нужно искоренять, без жалости и сожалений.. Многие обманываются, видя в них людей.. Аль “личность” етить меня.. Бред да и только.. Как только ты развернешься, они вцепятся в твою тоненькую шкуру своими когтями, растерзают плоть и сожрут.. И ты станешь очередным таким, кто поверил в “Людское”.. Никому не верь, слышишь? Никому.. Они могут ходить средь нас.. Могут спать с нами в одном ложе, делить ужин у костра.. — “Обычный с виду мужичок, что пережил не одну безысходную для просто человека ситуация, гласил то крайне серьёзно. Голос был размерен.. Слова, что исходили из его сухих уст, были подобно мантре заученной наизусть.”
— А я.. Ам-м.. Могу доверять вам?.. Вы же сами сказали.. Никому. — “Парень вычленил некоторые слова из сказанных ему ранее и задал логический вопрос.”
— Можешь.. Но решение.. Окончательное решение — за тобой. Я посплю с пару часов.. Выдвигаемся еще до рассвета.. Коль я проснусь и не увижу тебя.. То пойду один.. Решишь остаться — пойдешь со мною. — “Мужчина прикрыл глаза.. На удивление он вырубился почти сразу же.. Сидя на том же месте.. Аль он вовсе не спал?”
Думы малолетнего морфита опутал некий страх.. Страх и переживание из-за слов мужичка.. Но при этом страх граничил с величайшим интересом к познанию этого мира. Да и рассказы, что он слышал ранее о бравых воителях, что сражали различных бестий в неравном бою — давала ему некоторую мотивацию остаться с охотником.. Решение было принято спустя пару мгновений.. Его туша медленно спустилась к земле, он чуть ближе прибился к к костру, сгибая свой корпус.. В конце концов.. Он уснул с осознанием того, что завтра его ждёт новая жизнь.”

— Выдвигаемся.. — “В корпус юношеский врезался увесистый мужской сапог.”
Искариот вмиг отворил свои очи, бассово прокашлявшись. Охотник же в свою очередь подошел к костру, да ногой затушил тот. Вскоре двоица наконец вышла на тракт, медленно и постепенно продвигаясь по тропе, кою возложил на себя Искариот. По мере их продвижения — погода ухудшалась.. Сквозь стволы деревьев острыми порывами бил ветер в лица двух путников.
— Ды-ык.. Куда мы направляемся то? — “Вопросил Серафим.”
— Деревня Крыница. В одной корчме наказали, мол там нечистоты хватает.. Следственно и возможности подзаработать. — “Охотник обратил свой взор к юнцу.”
— Подзаработать? А я думал вы убиваете бестий.. Ну-у. За доброе дело. — “как-то неуверенно произнес Серафим.”
— Юнец.. Кабы я делал все то, что делаю за просто так.. Уж выжил из ума. Только псих будет лезть в дерьмо.. Шагать по пепелищам сражений и копаться в чужих кишках просто так. Таких как я — хватает. Кто-то этим в правду занимается из побуждений совести.. Кто-то из-за личной мести, а кто-то из-за наживы. Я же живу этим, смекаешь? Кабы не было всякого мудачья и нечистоты — не было бы и меня. Первый урок тебе..
— Разве тебе не хотелось заняться чем-то другим? — “вопросил вдруг Серафим.”
— Нет, не хотелось. Иногда ты понимаешь, что создан для того или инного. Кто-то синячит и бьет свою женку под её визги и плач, а хтось режет бестий. Кто-то ведь должен этим заниматься.
— А за какой бестией мы идем? — “Искариот зыркнул куда-то в бок, словно выискивая кого-то в потемках лесных.”
— Бестиями.. В этих краях их всякое множество.. Одна пуще другой, по сему и готовым нужно быть ко всему.
— И-и?.. Как убить бестию то? — “Вновь с интересом спросил Серафим.”
— Лезвием. Лезвие бей и убьешь.. Бестия тоже из плоти и крови состоит. Но пуще простого металла — серебро. Серебро лучший друг охотника.
— Серебро? — “С интересом вопросил Искариот, зенки свои сводя к вооружению мужскому.”
— Именно. После серебра не одной бестии не сдобровать. Но ты должен уяснить одно — ты слаб.. По сравнению со всеми бестиями — ты очень даже смертен. Никогда нельзя лезть на рожон.. Всегда нужно понять с кем будешь бороться. Приглядись, осмотри территорию.. Если понимаешь, что проигрываешь — беги. Геройской смертью своей ты никому добра не сделаешь.. А прожив ещё с годик другой, нечистоты то сколько перебьешь.. — “Охотник молвил свои наставления.”
— А какая бестия самая сильная? — “В Искариоте проснулся детский энтузиазм к познанию этого мира.. Каждый вопрос был всё сложнее и сложнее.”
— Сильная? Каждый из них силен по своему. Никогда не пренебрегай силой своего соперника. Он может внешне тебе казаться столь слабым.. А потом вцепиться в глотку и не отпустит.. А всё потому что ты подпустил его слишком близко. Но есть те.. Кто воистину выделяется на поприще других.. Разумные твари — кровососы и волколаки.. Они ходят под видом таких же существ как мы.. Говорят как мы.. Едят как мы.. Одним словом — хер ты их отличишь. Но коль уж он на тебя напал — всё. Считай твоего бытия болей нет. Одному охотнику в жизни не пережить столкновения в открытом бою против такой бестии. Хо-отя.. Слыхал я истории о неких людях, что сражали в честном бою вампиров.. Но как по мне — бредни и не болей. Я не лезу на таких. Я сражаюсь с утопцами.. Мертвецами — ожившими трупами. Я лишь бьюсь тогда, когда знаю своего врага. И ты должен поступать так же.. Это относится и к людям.
И вот наконец двоица оказалась подле глухой деревушки.. Заколоченные настежь окна, грязь под ногами, мертвая скотина тут и там.. Разруха. По бокам дорог выставлены умерщвленные жители, чьи органы и конечности лежали отделенные от тел посреди тропы, коя вела к стоявшему в центре колодцу. Запах гниющей плоти почти сразу же настиг юнца, обжигая его нос и гортань.. Этот запах был повсюду, он был настолько отвратителен, что Серафима вскоре вырвало вчерашними объедками. Охотник же холодно оглядывал могильник, медленно продвигаясь вдоль деревни. Серафим старался дышать ртом и не смотреть на те ужасы, кои были у него под ногами.. Он слегка задер свою голову, но охотник лёгким подзатыльником заставил его смотреть прямо пред собою. “Пиздюк.. Не отводи взор и привыкай к этому запаху.. Поверь — это не худшее, что может быть.”
Серафим попытался послушаться его приказаниям, однако рвотные позывы и инстинкты воспрещали тому открыть свои ноздри и впустить в те смрад улиц местных.
— Что здесь произошло? — “Вопросил дрожащим и испуганным гласом Серафим, что был крайне шокирован таким зрелищем.. Он молвил то с закрытым носом, от чего его голос искажался.”
— Это точно не бестия.. Люди. Люди юнец.. Как-то старый охотник, коий поучал меня всякому, сказал мне одну мудрость: “Не бойся мёртвых.. Бойся живых.” Потому не страшись трупов.. До момента когда они не встанут конечно. Это похоже на налёт.. Люд выбегал из своих дверей.. Погляди — дверные петли много у кого сорваны, значится в их хаты врывались и грабили.. А баб и того трахали. А те кто попытался убежать — лежат по боку дороги.. Приглядись, что ты тут видишь ещё такого, что взял бы в расчет?

— Я не знаю.. — “Скованно ответил Серафим, чьи думы были поглощены видами мертвых тел и общей разрухи.”
— Погляди вниз, видишь на тропе следы от двух колёс? Значится тут была повозка.. А следы видишь? Рядом с ней шло минимум человек так пять, значится всё добро они сбагрили в телегу отвезли далей по дороге. А теперь поглянь на трупы.. Подойди чуть ближе. — “Мужичёк схватил юнца небрежно за плечо, да поволок к лежащей на сырой земле, коя была пропитана алой, но уже запекшейся кровью, деве.”
— Бхр.. Мх-м.. Я не могу на это смотреть! Отпустите меня! — “Искариот разбушевался, пытаясь вырваться из цепких лап мужских, однако лёгкий удар с колена под дых заставил его образумиться, да закашляться, что было мощи.”
— Либо ты учишься и делаешь то, что говорю тебе я.. Либо умираешь в гордом одиночестве. Я тебе не отец, аль мать.. Сюсюкаться я с тобою не намерен.. Шо-сь ты юнец не берёшь в толк в каком мире мы живём.. В какой грязи нам приходится обитать.. Смотри, что учинили эти бляди. Смотри кому сказано!
— Мх-х.. — “Серафим поджал ноги к корпусу своему, руками прикрывая плотно уста.. Рвотный позыв было сложно заглушить, сердце вот-вот и вырвется из груди.. Кажись он терял сознание, но лёгкий удар по затылку ввёл его в чувства.. Пусть и неумолимый страх никуда не отступал.”
— Видишь раны на теле? Били топорами.. И судя по всему.. Видишь на плече? Наконечник стрелы застрявший.. Значится они вооружены.. Вооружены неплохо и находятся где-то неподалёку. Трупы то совсем свежие. Мы пойдём с тобою по их следам.. Наблюдай за каждым моим движением, внимай каждому моему слову.. Если я говорю бежать — нужно бежать, если я говорю спрятаться — нужно спрятаться.. А если я говорю бить.. То ты будешь бить. — “С этими словами седовласый охотник вытягивает из своего сапога кинжал обмотанный тканью.”
— Я не хочу.. Не хочу убивать.. Никого не хочу убивать! Я не такой! — “Всё таки отгласы воспитания, кои заложила в него его приёмная матушку выбивались и по сей день.. Пусть он и был тем ещё плутом, но убийство — было слишком.”
— А они тебя спрашивать не будут.. Кончат и всё.. А тельце оставят падальщикам, аль сами съедят. Всякий сброд по этим землям ходит. — “Мужчина выпрямился в корпусе, ремешки поправляя на стеганном дуплете.”
Двоица направился по горячим следам, попутно охотник внимал всем тем шорохам, что слышались вблизи их.. Наконец они наткнулись на распутье.. Дорога вела далей, но свора из тех зачинщиков, что учинили греховное в деревушке свернула в бурелом. Они старались идти в такт.. Серафим буквально шёл по следам охотника, стараясь не отходить от него слишком далеко.. Сам же он был в крайне стрессовой для себя ситуации.. Сердце неумолимо билось, а в горле пересохло.. В мыслях лишь было то, чтобы это всё как можно быстрее закончилось.
И вот вдали они увидали медленно тлеющий костёр и куда-то собирающихся людей. Одеты они были подобно крестьянам, за исключением шлемов, да латных наплечников. Напрашивался лишь один вывод — простые бандиты и не более. Седой охотник схватился за изголовья своего тесака.. Он медленно двигался далей.. Наказав Серафиму остановиться. Как только он подобрался достаточно близко.. Его рука скользнула по ноге, прямиком к ножу, что был скован ножнами свисающими. Вытягивая тот со звуком хлестким, он вмиг вбросил тот в шейный отдел одному из треклятых бандитов.. Началась суматоха в ходе которой охотник оказался в выигрышной позиции.. По неготовому сопернику, что так и не успел достать орудие, он вдарил своим палашом, от чего тот вмиг пал ниц.. Осталось лишь двое.. Однако они уже вытянули свои топоры, да стали бранить охотника, что двигался на боле боя крайне избирательно.. Каждый его шаг был чётко выверен.. Он знал как идти и как именно ему держать его орудие.. В этой суматохе двоица напала первыми. Охотник же ухватившись за палаш покрепче стал в оборонительную стойку из которой ловко отбивал их натиск.. Один из них уж бы совершил критическую ошибку.. Он дал лёгкую слабину.. Этого момента хватила, чтобы охотник разрезал ему глотку.. С последним же дела обстояли ещё проще.. Тот просто попятился назад.. Да споткнулся об своей же костёр, пав гузном на обугленные древесные угли завопив, что было мочи, охотник в момент врезал своим тесаком вдоль его лица.. От чего то словно раскололось на две части. Бойня была окончена.. А Серафим же стоял с открытым ртом, наблюдая за кровавой баней. Его ноги подкосились.. Всё же он пережил уж больно много за один день, от чего юношеская психика не выдержала.. Веки стали тяжелее.. Он потерял равновесие, падая на землю.. Сон.. Он уснул крепким сном.
Серафим судорожно болтыхался во сне, пока вовсе не вырвался из мира кошмаров.. Его лоб был покрыт холодным потом, что стекал по щекам.. Рядом с ним сидел охотник.. По бок был слышен треск костра.
— Поешь.. Мясо ещё осталось.. Да и сала было у них вдоволь.. Сало — это хорошо, дольше продержимся с тобою в пути.. Да и сейчас холодает.. Испортиться оно не должно. — “Мужчина был уставшим.. Вымотанным.. Далей он молча смотрел за тем, как Серафим медленно оклимался от своего сна.”
— Я.. Не голоден. — “Ответил беловласый морфит.”
— Голоден.. Просто выёбываешься. — “Ответил охотник.”
— Как мне после увиденного вообще есть.. Жить.. Я не понимаю.. Мне страшно.. — “По щекам детским струйкой полились слёзы.. Он заныл.. Заверещал в приступе безумия.”
— Отставь слёзы.. Я убил их потому что они этого заслужили.. Но первопричиной выступило то, что у них явно было чем поживиться.. А с мёртвого юнец — не убудет. Такой люд нужно резать.. Они такие же как и бестии.. Ничем от них не отличаются..
— Шо-сь мне делать то.. Теперь.. Я не хочу убивать! — “Серафим продолжал свою тираду.”
— Заткнись щенок! Мать твою.. В жизни есть те кто играют.. И те кем играют. Хищники.. И добыча. Так устроено всё. Хочешь ты этого, аль нет.. Если ты изберёшь мой путь, то будешь убивать.. Будешь убивать не мало.. Быть может даже из-за своей прихоти. Если бы я их отпустил.. Как думаешь, скольких бы они ещё порезали? М-м? А если бы я не убивал бестий, сколько бы люду от их когтей бы полегло?! Во-от и думай.. Ты либо становишься тем, кем должно.. Мужчиной, ответственным за выбранную тропу.. Аль будешь бабой.. Коя будет ныть о том, как бытие к нему несправедливо. Я могу тебя обучить тому, что знаю сам.. Потому что однажды со мною поступили так же.. Но у меня, в отличии от тебя — выбора не было, иногда у нас его забирают.. А тебе дана великая возможность.. Ды-ык.. Выбери для себя сам.. Пусть ты и пиздюк.. И мелкая сволота, но выбирай.. Либо ты говоришь да и ты получишь знания и умения кои помогут тебя в самых бестия сложных жизненных ситуациях.. Ты станешь тем, кого бояться и чтут.. Тем, с кем можно считаться. Либо уходи сейчас же и не мозоль своей наглой мордой мои очи.
— … “Серафим воистину задумался над словами охотника.. Неужели сама судьба свела его к чему-то большему, нежели мелкому жулику. Неужели ему сужденно было стать всё это время убийцей.. Аль может героем? Как посмотреть.. Погружаясь в пучину раздумий, Искариот обомлел.. Он сверкнул зелеными очами в ночной пелене.. Смотря прямиком в глаза охотнику и молча кивнул, тем самым дав добро.”
— Ты сам выбрал.. Тогда.. Урок второй.. Коль ты убил жуликов.. Аль убил сволоту, коя на тебя пала.. Не стыдись взять с них чего путного. В хозяйстве всё пригодится.. А мёртвый на тот свет не утащит. Тех денег, что я нашёл в повозке, на хватит надолго.. А коль растянуть, то весьма надолго.. Да и провизии на неделю вперёд.. Жаль всё не утащим, лошадь кажись от них убежала.. Хер знает шо они с ней делали.. Но не суть важно.. Урок второй.. Сжигай тела.. Будучи умерщвленными — это не конец.. Они могут встать.. Это происходит не так часто.. Скорее даже случай редкий. Но всё же они есть.. Потому не плоди нечисть, а избавляйся от неё на корню.. И урок третий.. Пользуйся преимуществом.. Забудь про честь и рыцарскую доблесть о коей пишут в книжках.. Всё это чушь. Первого я убил до того, как все успели понять, что происходит.. Второй как ты видел и вовсе не поспел орудия вытянуть.. Я быстро сократил численное преимущество и атаковал далей.. На сегодня из теории всё.. А ещё, держи.. Лежал у них в повозке.. Он пусть и великоват для тебя.. Но лучше ты научишься пользоваться им раньше.. Привыкнешь к его весу и после не будешь чувствовать сложности в управлении. — “Мужчина указал пальцем на лежащим подле Искариот одноручной клинок.”
**Полуторный меч**Меч выглядит средне-тяжелым, сбалансированным и невероятно прочным. В нем нет ни капли лишнего веса или бесполезного декора. Это инструмент войны, созданный для победы, а не для восхищения. Длиной около 90-100 см от крестовины до острия. Он
выкован из той же матовой, темной стали, что и доспех. На поверхности клинка нет ни гравировок, ни позолоты — лишь ровные, жесткие линии и легкие следы ковки, говорящие о ручной работе.
Крестовина (Гарда): Прямая и длинная, достаточная для надежной защиты руки, но не мешающая фехтовальным приемам.
Навершие (Яблоко): Массивное, в форме сплюснутого диска или груши. Оно служит не украшением, а противовесом клинку, делая меч идеально сбалансированным. Его вес позволяет им рубить с огромной силой, но при этом сохранять скорость и контроль для точных уколов.
Рукоять (Черен): Длина около 20-25 см, что и дало мечу название «полуторный» — её можно было охватить как одной, так и двумя руками для более мощного удара. Обмотана прочной черной кожей, поверх которой для лучшего хвата туго накручены витки проволоки
— Это мне?.. Великоват он как-то.. — “Хмуро взглянул Серафим, утирая горючие слёзы со своего лика.”
— А мне какая к хуям разница.. Хочешь жить — адаптируйся..
С этого момента и началось.. Началась новая глава в жизни седовласого.
Они шагали вместе от тракта к тракту, посещали таверны.. По ходу их бесконечных вылазок юноша стал крепнуть.. Да и тот свод физических нагрузок, кои были возложены на Серафима, пережил бы далеко не каждый юноша.. Впрочем он переживал их весьма болезненно. Акцент был на выносливость и точность движений. Подобного рода жизнь дурно сказывалось на восприятии мира. Он был ещё ребенком, чистым, незамызганнымым холстом, на коий при желании можно было налепить чего только захочешь.. Охотник прививал все те качества, кои помогли бы ему на большаке, кабы в первый же день его не загрызла свора собак одичалых, аль нежить какая..
В базис его обучения входило и владение орудием, однако это у него получалось крайне скверно. Ростом он был пока невелик.. Да и весом тем более, потому даже одноручный клинок он не мог удержать в своих двух.
Прежде чем первый раз вступить в контакт с какой-либо ересью — требовалось её изучить.. Однако и для этого требовался свод навыков. Физические упражнения и оттачивание мастерства владения мечом было просто необходимо.. Но как узнать, где именно прячется твой враг?
Наблюдательность — каждый раз, как Серафим выходил на охоту вместе со своим наставником.. На простую.. За простой скотиной, он заставлял его буквально вникать в суть следов, звуков.. Копаться в их дерьме и смотреть на погрызанную траву, вместе с отчего-то опавшими ягодами с куста. Каждый нюанс в точности мог показать с кем предстоит встретиться.. Как должно подготовиться к этой встрече. Следы говорили многое и читать их было прямой обязанностью юного Искариота. “Быстрые ноги — пизды не боятся.” именно так красноречиво выражался престарелый охотник.. Он знал, что бегать приходится много, как и ходить.. По сему заставлял Серафима бегать не в самых благополучных местах.. Лесных чащобах, на песке.. Аль вовсе по колено в грязи.. В болотистых трясинах. Это попросту выбивало из него все силы, ведь на адаптацию к такой жизни требовалось немало времени. По итогу Искариот всё же смог овладеть клинком.. Ды-ык и в придачу луком, коей смастерил для него наставник.. Его навыки охоты на диких зверей.. Умение брать след и понять то, с чем ему предстоит столкнуться, также вышли на совершенно иной уровень. Да и общие рассказы о той или иной бестии о коих сам знавал охотник, весьма сильно бы пригодились ему в будующем. Так юноша и рос до своих восемнадцати готов.. Пусть и возраст этот был шуточный, охотник, что всё это время передавал свой жизненный опыт.. Бесценный и выстраданный на практике, старел он незамидлительно.. Серафим и сам понимал, что старику, чьи суставы предательски хрустят, а спина уж болей не изгибается так же ловко при очередном спаринге, осознал, что ему уж пора бы на покой..
То был день как день.. Очередной унылый день.. Охота.. Следы.. Бег.. Прыжки.. Всё это порядком наскучило Серафиму. Сидя у костра, был слышен лишь треск хвороста, да звуки лесной живности, что старалась обходить источник света за версту.
— Я вот всё не могу взять в толк, старик.. А шо-сь ты тогда взял меня.. Ну-ус.. При нашей первой встрече.. Почему не отвечаешь мне на этот вопрос? Неужели я слишком юн, для того, чтобы понять мудрость человека находящегося уж бы при смерти? — “Серафим перенял суровый нрав своего наставника и весьма скверное чувство юмора.. Циничное и правдивое.”
— Серафим, когда ты был ещё щенком.. Неокрепшим юношей, я честно признаться первое время думал пользовать тебя.. Ну-ус.. Выманить из логова тварь какую, аль украсть чего.. Ты-ж был мелким и проворливым. А я и тогда был стар для подобного. Но-о.. Со временем понимал, что мои то годы не вечны.. Ты же морда длинноухая — живёшь на порядок больше нас.. Людей, значит сможешь сделать куда больше благо для всех нас. Быть тем, кого я из тебя пытался вырастить — правильно.. Это по мужски, смекаешь? Кто, коль не мы?.. Ты уже достаточно знаешь, чтобы взять свой первый заказ.. Пусть ты и вблизь не видал бестий.. Но ты наблюдал все эти годы за мною. Я помню свою первую ересь. То был утопец — страшная тварь.. Доселе в кошмарах моих селится падла.. Я тогда обосрал свои портки, не буду строить из себя облуд пойми что.. Перед ликом опасности, я струсил.. Я начал убегать.. А он за мною и когда он почти меня настиг, я наотмашь как дал ему! Аж-ж бестия челюсть срубил падле.. А потом не помню.. Как в тумане.. Очнулся я подле его тела изрубленного, видать в порыве агрессии, аль животного страха мои инстинкты сработали как надо и я остался жив.. Дали мне местные жители пару бронзовиков, да пошёл я счастливый. Вот и твоё время настало. А я Серафим, ухожу.. Ухожу туда, где спокойно, туда где меня ждут остальные наши собратья.. Закончилась моя тропа, пора пожить и для себя. А ты уходи, как захочешь повидать старика. На востоке отсюда, вблизь полноводной речушки “Хмырь”.. Ступай вдоль пригорков, ты увидаешь сразу, куда нужно идти.. Не ошибёшься. С виду крепость заброшена, но там сидят от мало до велика. Все выродки коих ещё поискать.. И наймиты и те кто зарабатывают как мы.. Все. Пожалуй там я и проведу всё оставшееся время, кое мне судьба отвесила. — “Старик выглядел разбитым. Видать осознание неминуемой старости и пониманием, что болей он непригоден.. Ненужен — выгрызало его изнутри.”
— Хан, спасибо тебе за всё.. Ты-ж мне за место тятьки был.. Пусть ты ещё та хвороба ходячая и плут коих поискать, но спасибо тебе, что тогда не бросил меня. Всё, что я есть, это ты мне дал.. Больше никто. Я продолжу это дело в дань моего уважения к тебе, да и я больше ничего не умею и видимо ни к чему не пригоден. Я собираюсь уйти на запад.. Молвы ведь в том захолостуном трактире, ну-ус.. В коем недавно были, сам помнишь.. Молвы уж больно дурные про те края.. От разборов местных элит не мало люду перевелось.. А где смерть, там и бестия.. А где бестия — ещё болей смерти. — “Серафим встал на свои две.. Он был окрепшим.. Осанка была его ровной.. Плечи расправлены, он встал как на парад, пред людом, что заменил ему отца и мать, дал всё, что сам только мог дать.” — Прощай, Хан.. Даст бог — свидимся. — “Он протягивает свою руку к наставнику, однако тот не пожимает её, лишь отбивая тыльной стороной длани своей.”
— Иди уже.. — “Сварливо наказал старик, внемлющий треску костра.” — я дал тебе всё.. Не просри, Серафим.
На том их прощание окончилось.. Серафим понимал, что долгие прощания — лишние слёзы, а по сему собрав свою авоську с припасами, да водрузив клинок на пояс.. Он медленно стал удаляться, его туша растворялась средь лесного бурелома.. Силуэт вот-вот и пропадёт, а Хан.. Хан остался. Остался подле костра и сидел там ещё с целую ночь, не смыкая своих глаз.

Последующие годы своей жизни Серафим провёл лишь с одной целью — убить и не быть убитым.
Восемьдесят лет — не срок для Морфита. Не срок, а растянутая, серая мука. Не жизнь, а одно долгое утро после похмелья. День за днём, год за годом — всё одно и то же. Грязь под ногами. Вонь в ноздрях. Холод в костях.
Меня не звали героем. Да и кто, бестия, такие герои? Те, что в замках жируют, да баллады про себя слушают? Я был нужен, когда уже смердело. Когда из колодца трупной тиной тянуло, или на погосте земля шевелилась, как кишки у больного живота. Звали «Костолом», «Бледный», «Тот-Кто-Копает». Платили чем попало: тухлой солониной, заплесневелым хлебом, медяками, стёртыми до дыр. Иногда вообще не платили — крестились да плевали вслед, мол, сам чёрт, не иначе.
Работа была грязная. Не рыцарская. Не для летописей.
Утопленники. Чаще всего — они. В деревнях у нас топились по-всякому: от безысходности, от пьяни, от горя. А вода, она мёртвое не отпускает. Оно там лежит, разбухает, белёет, как сальная свеча. А потом, через месяц, через год — выходит. Не все. Один из десяти, может. Не выходит даже — просто встаёт на дно и стоит. Руки сложит на вспученном животе, и стоит. Рыба вокруг него дохнет. Собака, испившая из того места, сдохнет с поджатым хвостом. А потом начинает тянуть. Сначала мелкую живность. Потом ребёнка, если мать зазевается.
Мне приходилось заходить. В эту самую воду. Тёплую летом, липкую, как похлёбка. Ледяную осенью — аж кости ломит. Идешь по грудь, а под ногами ил, густой, всасывающий. И он там, на дне. Смотрит пустыми глазницами. Не нападает сразу. Ждёт, пока подойдёшь ближе. А потом — хвать. Руки холодные, скользкие, сильные, как у кузнеца. Не кричит, не рычит. Молча душит. Боролся я с ними не по-рыцарски. Не клинком размахивал. Нож короткий, с серебром на лезвии — под ребро, в шею, в сустав. Иногда просто кол из осины вбивал, пока он на дне бьётся, пуская пузыри чёрной жижи. Потом тащил на берег. Тело на воздухе быстро оседало, как проколотый бурдюк. Изо рта текла не кровь, а серая слизь с червями. Сжигал. Горели они плохо, мокрые. Дым стоял едкий, жирный, с запахом варёных потрохов. Этот запах потом неделю из пор не выходил, сколько ни три.
Мертвяки. С ними было проще, но противнее. Копай. Всегда копай. Лопатой, под моросящим дождём или палящим солнцем — без разницы. Земля тяжёлая, слежавшаяся. Удар — и глухой стук по гробовой доске. Доски эти чаще всего трухлявые, проломаешься — и в лицо тебе гарь сыплется, смешанная с тленом.
А внутри... Внутри бывало по-разному. Иногда почти целый, только посиневший, с закрытыми глазами. Как спит. А иногда — гниль в самом разгаре. Мясо сползает с костей, как варёное, кишки сизые, распухшие. А он шевелится. Пальцы, почерневшие, когтистые, скребут по дереву. Глаза открывает — мутные, затянутые плёнкой, как у дохлой рыбы.
Но чаще всего — следы поветрия. Красные пятна, не сходящие с кожи даже после смерти. Папулы и бубоны, лопнувшие и засохшие, как гнилые плоды. От них шёл сладковато-гнилостный запах, отличный от обычного трупного — более острый, въедливый. Такие вставали быстрее. Когда вбивал кол, из бубонов сочилась густая жёлтая жижа, пахнущая медным купоросом и разложением.
Были и послевоенные. Те, кого закопали наспех, в братских могилах. Там земля «бродила» сильнее всего. Раскапываешь — а там не скелеты, а сплошная масса: кости вперемешку с кольчужными кольцами, обрывками кожи, обломками оружия. Иногда натыкался на тело в ещё сохранившихся латах — внутри уже всё сгнило, а снаружи как живой рыцарь. Пока не подойдёшь ближе и не увидишь червей, копошащихся в глазницах под забралом. Такие были злее. Возможно, помнили, как погибли. Хватались за мои руки костяными пальцами, обёрнутыми в кожаные перчатки, истлевшими до состояния тряпья. На полях былых сражений земля была пропитана кровью и ненавистью насквозь. Там не просто вставали — там продолжали сражаться. Натыкался на скелеты, зажавшие в костлявых пальцах ржавые мечи, на арбалетчиков, чьи останки всё ещё сидели в засаде за полуразвалившимся частоколом. Однажды чуть не погиб от такого — шёл ночью, а с земли поднялся лучник, почти полный скелет, и натянул тетиву. Стрела, истлевшая, но всё ещё с железным наконечником, воткнулась мне в плечо. Пришлось выжигать рану раскалённым клинком, чтобы гангрена не пошла.
А ещё были жертвы голодных годов. Худые, скелетообразные, с впалыми животами и огромными, не по-человечески большими головами. Они словно продолжали искать еду и после смерти. Их кости были хрупкими, как птичьи, ломались от одного удара киянки. Но шевелились они с какой-то особой, жадной настойчивостью.
В деревнях, переживших мор, работа была самой омерзительной. Там хоронили целыми семьями. И вставали они тоже семьями. Раскапываешь яму — а там отец, мать, дети... все вместе. И все шевелятся. Детские скелетики с молочными зубами, цепляющиеся за подол истлевшей материнской юбки. Мать, обнимающая грудного младенца, от которого остались только косточки да клочья пелёнок. Приходилось растаскивать их, разбивать эти посмертные объятия. Кости детей хрустели под сапогом с особым, тонким звуком. После таких работ пил до потери сознания, но детский хруст всё равно стоял в ушах.
Солдаты, умершие от ран в полевых лазаретах, были отдельной кастой. Они вставали с бинтами, прилипшими к гниющей плоти, с заживо сросшимися переломами, с деревянными протезами вместо отрубленных конечностей. Один, с торчащими из грудной клетки обломками ржавой пики, преследовал меня полверсты, неуклюже спотыкаясь и хрипя, будто воздух выходил через эти самые дыры. Убить его пришлось, разломав на части топором.
Самыми же стойкими были те, кого повесили. Долгие годы болтаясь на ветру и дожде, они высыхали, превращались в своеобразные мумии. Но когда земля начинала шевелиться, и они оживали — худые, тёмные, с вывернутыми под неестественным углом шеями. Их было почти невозможно убить обычным колом — слишком сухие. Приходилось отпиливать головы или вовсе дробить в щепы.
Никакой лирики. Бил колом. Бил киянкой. Тук. Острый конец входил в грудину с хрустом. Тело выгибалось дугой, из горла вырывался не крик, а хрип — звук выходящего из гниющих лёгких воздуха. Потом обмякнет. И лежит. И воняет. Воняет так, что потом три дня харчи не лезут в горло, только блевоту желчную отрыгиваешь.
Бывало и иначе. На старых кладбищах, где хоронили бедняков в общих ямах, земля «бродила» постоянно. Раскапываешь — а там не скелеты, а комья, перемешанные: кости, тряпье, слипшаяся в одну массу плоть. И всё это шевелится, как червивьё в навозе. Тут уж не до колов. Лопата, да облив маслом да смолой — и огонь. Жги. Жги всё к чёртовой матери. Дым коромыслом, в глазах режет, в лёгких оседает сажей. А вокруг мужики деревенские стоят, крестятся, боятся подойти. Потом дадут краюху хлеба да скажут: «Уходи, Бледный. Дух на тебе могильный».
После каждого такого поля, каждой братской могилы или чумного захоронения, я сам чувствовал, как что-то во мне отмирает. Не физически — душевно. Оставалась только пустота, заполненная хрустом костей, видом гниющей плоти и знанием, что это никогда не кончится. Пока люди воюют, болеют и голодают — будет из чего вставать мертвякам. Я был дворником при всемирной бойне, подметающим осколки после вечного побоища.
Жил где придётся. В пустых хлевах, в полуразвалившихся баньках на отшибе, под открытым небом у потухшего костра. Спал чутко, как зверь. Каждый шорох — повод руку к клинку положить. Ел что дадут, а чаще — что нашёл, что украл. Ягоды, коренья, падаль, если совсем припёрло. Пил дешёвый, вонючий самогон, который выжигал нутро дотла, давая на пару часов забытья. Одежда сгнила на мне, превратилась в лохмотья, пропахшие дымом, землёй и смертью. Мылся редко. Вода холодная, да и зачем? Через день снова в грязи по уши.
Внешность менялась медленно, но верно. Не старение — изнашивание. Кожа, и без того бледная, стала землистой, пергаментной, покрылась сеткой мелких морщин у глаз и рта. Волосы, некогда белые, спутались в грязные, жёсткие космы цвета пепла. Взгляд… Взгляд стал как у тех, кого я убивал. Пустой. Смотрящий не на человека, а сквозь него, куда-то вдаль, где только туман да гнилые пни.
Говорить разучился. Голос, если требовалось, рождался хрипом, сиплым, непривычным. Слова короткие, рубленные. «Будет.» «Деньги.» «Уйди.» Чаще молчал. Кивал. Плевал.
Были, конечно, и те, кто пытался нажиться. Деревенские уродцы, что думали: раз он с нежитью водится, значит и сам колдун. Приходили ночью, с вилами, с топорами. Чтобы «очистить землю». Приходили — и не уходили. Я не церемонился. С живыми проще, чем с утопленниками. У живых есть страх. У живых есть горло, которое режется. И кишки, которые вываливаются на землю тёплым, дымящимся клубком. После таких визитов приходилось уходить дальше, глубже в чащобу. Оставлять за собой ещё одно немое, окровавленное место.
Какого хрена я это делал? В первые годы, может, и думал, что за чем-то стою. Что очищаю мир. Ханькины слова вспоминал. Потом эта мысль выветрилась, как дурной запах. Осталась привычка. Ремесло. Ты же не спрашиваешь падальщика, зачем он жрёт дохлятину. Он жрёт, потому что иначе сдохнет. Я убивал, потому что больше ничего не умел. Потому что остановиться — значило подумать. А думать было нельзя. В мыслях — только смрад раскопанных могил, скользкая плоть утопленников и вечный, непроглядный мрак впереди.
Иногда, в редкие, совсем уж пьяные ночи, мерещилось, что я и есть та самая нежить. Что я давно умер в том лесу, когда мать схоронили, а теперь просто хожу, по инерции, выполняя заученные движения. Что нет разницы между мной и тем, кого я закалываю серебряным ножом. Мы все — гниль на теле этого мира. Одни чуть свежее, другие — чуть дальше зашли. Каждый удар по этим ожившим последствиям войн, эпидемий и голода был напоминанием: мир — это открытая рана, которая гниёт заживо. А я — всего лишь жалкая попытка счистить немного гноя с её краёв.
Но утром, с похмельной дрожью в руках и кислым привкусом во рту, я снова брал лопату. Снова шёл к указанному погосту или болоту. Снова копал, рубил, жёг.
Бытие Серафима складывалось из однотипных действ. Круговорот блядства в природе. Он делал всё рефлекторно. Он знал свой свод работы и не лез на то, от чего мог помереть запросто. Потому он и оставался живым. Но не о такой поэтичной жизни мечтал он. Быть может он сгодился бы на нечто большее? Выдался б шанс.. Доказать себе, да и всем остальным, что он не зря родился на этот свет, что есть в нём нечто.. Большее нежели простой “могильщик”, коий избавляет люд простой от гниющих, оживших трупов.

Серафим оглядывал голову, удивленно взирая после и на мужчин, что одолели такую бестию.. Искариот не был поклонникам приличия, по сему и попросту таращился на тех, привлекая определенного рода внимание к своей личности.. От чего-то они резко умолкли, вглядываясь теперь и в Серафима. Он подобно загнанному зверьку, приспустил свою руку на рукоять вооружения, что послушно дожидалось его в ножнах.. Троица вдруг сдвинулась места, сапоги зашуршали по древесному полу, коий предательски поскрипывал, лишь накаляя атмосферу в воздухе.. Они не спрашивая уселись пред ним за стол, вглядываясь в диковато выглядящего охотника.
— Слышь.. А это не ты часом тут ересь на трактах режешь, да по деревням бродишь.. Не ты с трупаками возишься? — “С неким неподдельным интересом спросил один из них.”
— А вам на кой облуд знать? — “Серафим не понимал чего именно им нужно от него, по сему не стал раскрывать сразу все карты.. Он оценивал их своим взором.. Оценивал орудие, мускулатуру.. Он знал, что в открытом бою вряд-ли сможет завалить троих обученных бойцов, кои тем более смогли избавить от такой бестии. Он лишь выжидал нужного момента, чтобы вскочить и податься в бегство.”
— Мх-х.. Чего-ж такая грубость то? Буду краток. Ты слыхал о Друнгарском цехе? — “Мужчины как-то напряглись от этих слов, словно ещё чуть и встанут по стойке смирно, Серафиму удалось считать этот невербальный жест.”
— А шо? Не слыхал.. А должен? — “Серафим давал больше вопросов, нежели ответов.”
— Коль ты тот, о ком мы думаем, быть может ты рассмотрел бы предложение пойти с нами.. Мы представители Друнгарского цеха. Охотники на бестий, мракоборцы, аль просто бесславные ублюдки.. Как только народ нас не кличет. Но не в том суть.. Коль ты и есть тот “Могильщик.”, значится мы с тобою занимаемся одним и тем же.. Ты похож на того, у кого есть определенный жизненный опыт.. А всех таких, нужно зазывать к нам, понимаешь? Обучать молодняк.. И всё прочее.. А о тебе идёт слава, мол ты с мёртвыми проводишь времени поболей чем с живыми.”
— Допустим.. Это я. Но учитель из меня не шибко славный. Я бьюсь только с ожившими мертвецами.. Утопцами. Всеми теми, кто страшит своим видом люд и причиняет им уж больно много проблем. — “Серафим ответил размеренно, отпивая из своей кружки очередной глоток.”
— О как.. Значится не пойдёшь с нами? В прочем.. Коль захочешь, сам найдешь нас и придёшь. Заставлять, аль что-то тебе объяснять я не буду. Переночуй с этой мыслью ночь.. А мы пожалуй пойдём. Нам нужно вяртаться обратно.
— Я вам не сказал нет. Я сказал лишь то, что из меня хреновый учитель. Воевать я не умею особо, мне-б самому научится с бестиями ладить.. А потом уж кого-то учить.. — “Серафим постукивал указательным пальцем своим по столу, наблюдая за реакцией собеседников.”
— Век живи — век учись.. Охотников толковых мало.. А тех кто живёт так долго, как ты.. Морфит.. Тем более меньше, коль не помер — не дурак, следственно поучиться есть чему.
— Я пойду с вами, но лишь с условием о том, что меня будут кормить и поить. — “Серафим сказал то на полном серьёзе, однако его собеседники посчитали то дурной шуткой и рассмеялись.”
— Пха! Да будет тебе, могильщик! И кормежка будет и по выходных долбёжка! Фу-ух.. Чё-ж ты чудной то такой, хотя в нашем деле нормальные давно уж поизвелись.. А те кто как ты мертвечину каждый день заставляют уснуть вечным сном.. Так подавно головою нездоровы.
После недолгого разговора с ними, наконец Серафим понял, что его жизнь стала приобретать краски.. Наконец с ним задолгое время кто-то поговорил.. По Простому поговорил, а как дали волю, так таво было не заткнуть. Ему этого поистине не хватало, внутренний ребёнок вырывался наружу как только мог. Он согласился лишь за тем, чтобы что-то поменять.. Он не хотел до конца своему существования провести за уборкой этого мусора.. За уборкой неупокоенных людских душ. Они совместно провели какое-то время. Обговорили за жизнь и Серафим получил то самое понимание.. То, чего он так желал.. Холодный рассудок затмили детские мысли.. Он воистину вёл себя как чудокатый ребёнок, но к нему относились по свойски. Не как к челяди, коя выступает сборщиком дерьма, а как к собрату по одному и тому же делу. И вот они выдвинулись в путь, Серафим на последок осмотрел те края, в коих он провел столько времени.. Столько лет потрачено, а куда? Разве он чем-то смог поменять людскую жизнь, разве поуменьшилось количество смертей от мертвецов? Навряд-ли. С глаз долой, из сердца вон он вытянул тот эпизод жизни, устремившись в цитадель и храм знаний о его ремесле..
Дорога была не дорогой, а чёртовой кишкой из грязи да корней. Лес по сторонам — стена мокрая, заплесневелая, будто гроб сгнивший. Воздух — как в подвале у скотника: сыростью, трухляком да чем-то звериным, потным и голодным разит. Не падалью — живым злом.
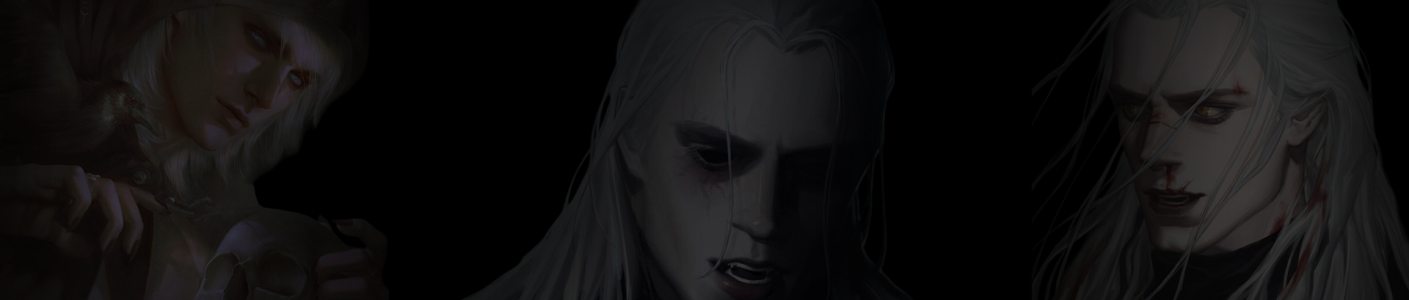
Троица из Цеха продиралась вперёд. Генрих — здоровенный бугай, лицо в рубцах, будто медведь на него сраный тополь уронил. Лис — костлявый прыщ, глазёнки по кустам шныряют, как у вошки в портках. Элмар, пацан ещё, молчок, пальцы по рукояти топоришки похаживают.
Серафим ковылял позади. Взгляд его, выдолбленный годами в могильных ямах, не по стволам скользил, а по земле. Выискивал знаки. Вот — клок шерсти на коре, тёмный да жёсткий, не заячий. Вот — царапки на ёлке снизу, не волчьи, не рысьи. Лес кругом пуст стоял. До похабности пуст. Даже вороны замолкли, сволочи.
— Эй, Могильщик, поднатужься, святцы! — “рявкнул Генрих, не оборачиваясь. Голос глухо, как в пустую бочку.” — До ночлега ещё херова туча пути, а в этой трущобе ночь коротать — хуже, чем в говне сдохнуть.
— Я и в говне ночевал, — “буркнул Серафим, не отрывая глаз от земли.” — Не привыкать.
— Слышь, Бернт? Он привыкший, — “Лис фыркнул, будто крыса чихнула.” — Мы, браток, с бестией делов имеем. Которая рычит да кусается. А ты… ты с тихушниками. Которые в земле копошатся. Скучища твоя работа, блевать тянет.
— Зато по чесноку. — “отрезал Серафим.” — Мертвяк не выскочит, пока яму не раскопаешь. А эта живность…
Не договорил. Лес замер окончательно. Не притих — вымер, как после мора. Нет писка, нет шороха, даже комары, сосучие твари, замолкли. Только хлюп их сапог по грязи. И тот самый, кислый смрад. Теперь он повис в воздухе густо, как сальная пелена.
Элмар встал как вкопанный. Рука сама на топор легла.
— Тихо. — “выдохнул он.” — Не одни.
— Волки? — “Лис мигом выдёргивает пару коротких, толстых тесаков. Руки трясутся безвольно.”
— Не волки. — “прошипел Серафим. Его ноздри, прожжённые вонью тлена, безошибочно выцедили эту ноту. Голод. Звериный, острый. И шёл он не спереди, не сзади. Он кругом был.” — Падальщики. Мелкотня. Много, бестия.
Из-под гнилого пня, бесшумно, как чёрная сопля, вылезла первая тварь.
Серафим разглядел её в тусклом свете. Кровопускатель. На картинках страшнее. Вживую — омерзительнее. Тварь с телом худой псины, да сложена как урод. Лапы выворочены в суставах, будто их ломали и криво собрали. Стоит, покачивается, смотрит парой выпученных, гнилой зеленью светящихся глаз. Морда — тупая кругляшка, рот как у пиявки, усеянный мелкими, острыми, как стёклышки, зубами. Шерсти почти нет — чёрная, лоснящаяся шкура, щетина редкая.
— Блядь! Стая! — “Генрих рванул с плеча тяжёлую секиру, лезвие узкое, как клык.” — Спина к спине, суки! Не дать облепить!
Но они уже были облеплены. Из-под каждой валежины, из-под каждой ели — новые. Не семь. Чёртова орда. Звуков не издают. Только скребеж когтей по мху. И смрад. Кислый, как блёвота.
Первая тварь рванула. Не на Генриха, а на Лиса — низко, почти ползком, сбоку. Движения — рваные, быстрые, неестественные. Лис взвизгнул и рубанул тесаком сверху. Железо с глухим стуком вошло в чёрное тело, но тварь, будто не чуя, рванула вперёд. Коготь, короткий, загнутый, мелькнул — штанина на бедре Лиса расползлась, а с ней и кожа. Хлюпающий, рвущий звук. Лис заорал уже не от страха, а от боли — звук был мокрым, живым.
— до ебени матери! — “Элмар выпустил стрелу из своего короткого лука. Деревяшка с костяным наконечником вонзилась в бок другого кровопускателя. Тварь пискнула — тонко, по-крысиному — и откатилась, но на её место уж лезли две другие.”
Серафим стоял, будто в землю вмёрз. Его враги всегда были медлительны. Утопленник, месивший тину. Мертвяк, из ямы ползущий. Эта скорость, эта слаженная, беззвучная злоба… Он не знал, что с этим делать, но видел как именно они атакуют: одна на оружие бросается, другая в тот же миг жилу сзади режет, третья в горло вцепляется. Они не дрались. Они потрошили.
Генрих, здоровенный и злой, работал секирой как косой. Рубил, лапы отсекал, черепа разбивал. Чёрная, густая дрянь брызгала на мох. Но на каждого убитого — трое новых. Они на спину ему запрыгивали, когтями в стёганку вцеплялись, к шее тянулись. Он сбрасывал, крутился, но дыхание уже тяжёлое, движения грузные.
— Могильщик! Стоишь как истукан, блядь! — “Лис орал, ладонь к бедру прижимая. Из разреза сочилось не алое, а что-то тёмное, почти чёрное, маслянистое.” — Руби, тварь ебучая, или всем пурпиду!
Крик, полный животного ужаса, выдернул Серафима из ступора. Он не думал. Рука сама выхватила его клинок — не серебряный, неприглядный, простой железный тесак, зазубренный от рубки гнилых гробов. Он не знал, как этих тварей убивать. Но знал, как самому не сдохнуть.
Не бросился в гущу. Шаг назад, спиной к толстой сосне прижался. Углы ограничил. Первый кровопускатель прыгнул, пасть круглую разинув. Серафим не рубил — ткнул. Остриём прямо в эту чёрную дыру. Железо с хрустом прошло сквозь хрящ и вышло сзади. Тварь обвисла, но её мёртвый вес повалил его наземь.
Смрад ударил в нос — кислятиной, гнилым мясом да медью. На него уже падала вторая. Серафим, в грязи валяясь, выставил вперёд окровавленный тесак, и тварь сама напоролась, грудь себе проткнув. Тёплая, липкая дрянь хлестнула в лицо. Не кровь. Что-то гуще, темнее, ржавчиной воняет.
Откатился, клинок вырвал, на колени встал. Картина ясна. Элмар, лук бросив, отбивался охотничьим ножом, лицо в царапинах, рукава в клочьях. Генрих, здоровый зверь, теперь на медведя затравленного похож. Лис лежал, дёргался, а над ним две твари уже склонились, живот ему методично разрывая.
Серафим понял. Не воины они. Падальщики. Но умные. Трусы, пока жертва сильна. И безжалостные, когда падает.
В нём что-то переломилось. Не ярость. Холод. Тот самый ледяной расчёт, что нож в бок Элрона вогнал. Перестал «бестий» видеть. Увидел угрозу. Шумную, вонючую, копошащуюся угрозу, которую надо удалить. Как гангрену.
Поднялся. Движения — резкие, короткие. Не преследовал. Подпускал и убивал. Удар под прыжок, в мягкое подбрюшье. Лапу отбил — и сразу в глаз тычок. Использовал деревья как стену, заманивая тварей в теснину между стволами, где не увернуться.
— К дереву! Ко мне, святцы! — “голос, для команд не пригодный, прозвучал хрипло, но жёстко.”
Элмар, чёрной жижей истекая, пополз к нему. Генрих, от горла очередную тварь оторвав, шаг тяжёлый в их сторону сделал, отход прикрывая.
Серафим выхватил из-за пояса не оружие, а инструмент — короткую, толстую дубину из морёного дуба, с утолщением на конце. Не для убийства. Для оглушения. Когда очередной кровопускатель на Генриха со спины прыгнул, Серафим шагнул вперёд и со всей дурной силы дубину ему в висок всадил. Раздался тупой, костяной щелчок. Тварь свалилась, дёргаясь.
Сбились в кучку у сосны: Серафим, хрипящий Генрих и окровавленный Элмар. Лис лежал в трёх шагах. От криков его — бульканье осталось, потом и оно стихло.
Стая, нескольких потеряв, не ушла. Обступили плотным, шевелящимся полукольцом. Зелёные глаза в полумраке мерцают.
— Стрелы кончились, святцы… — “прошипел Генрих, секира его в чёрном.” — Лиса нет… Кончайте, твари. Дожили.
— Огонь, — “бросил Серафим Элмару.” — Разжигай, тварь.
— Чего?
— Огонь, ебаная твоя голова! В котомке моей, слева, трут да кресало! Живые они. Всё живое огня боится, как девка хера.
Дрожащими, окровавленными пальцами Элмар в мешке шарить начал. Кровопускатели, движение почуяв, кольцо сжали. Серафим швырнул в них свой тесак окровавленный. Не целясь. Просто чтоб отвлечь. Тесак в землю воткнулся перед вожаком, тот отпрыгнул с шипением.
Искра высеклась. Потом ещё. Трут задымился, вспыхнул. Элмар поднёс к нему обрывок промасленной ветоши на сухой ветке. Пламя, жалкое и жёлтое, заколебалось, осветив три рожи измученные да десяток пар глаз зелёных.
Сработало.
Кровопускатели отпрянули. Зашипели, заскулили — впервые звуки издав, похожие на скрежет железа по камню. Глаза выпученные болезненно щурятся.
— Отходим… Медленно, суки… — “Серафим факел у Элмара выхватил. Водит им перед собой, как метлой, тварей отгоняя.” — Генрих, Лиса… если ещё что осталось.
Генрих, кряхтя, наклонился, взвалил на плечи обезображенный комок плоти да тряпья. Из него что-то капает.
Трое живых да один мёртвый, пятясь, двинулись прочь, от стаи отпихиваясь, что в пламя прыгнуть не решается. Глаза зелёные долго провожают, пока в черноте не растворятся.
Когда выползли на старую, колёсами разбитую дорогу, силы кончились. Генрих тело Лиса на землю швырнул. Оно даже не хлюпнуло — слишком лёгкое, пустое. Горло да живот — одно рваное, чёрное месиво.
Элмар рухнул на колени, рану на предплечье судорожно сжимая. Взгляд остекленевший, пустой.
Генрих сидит, лицо в ладони окровавленные уткнул. Плечи могучие вздрагивают — не от страха, от злобы бессильной да стыда.
Серафим факел потушил, обгорелый конец в грязь воткнул. Стоит, облитый чужой слюной чёрной да внутренностями, дублет его старый исполосован. Смотрит на то, что от Лиса осталось, потом на двух выживших.
— Элита. — “хрипло прошипел он, и в слове этом — вся горечь восьмидесяти лет в ямах с костями.” — Охотники на диковин, святцы.
Подошёл к телу, наклонился, шарить начал по тому, что одеждой было. Нашёл кошелёк тугой, вытащил. У пояса нож в простых ножнах нащупал — не богатый, но сталь крепкая.
— Что ты творишь, стервец ебучий?! — “Генрих поднял на него глаза воспалённые. В них ненависть плещется.”
— Урок второй. — “без интонации ответил Серафим, добычу в свой мешок пихая.” — С мертвеца не спросится. В хозяйстве сгодится. Особенно у таких… знатных.
Посмотрел на восток, где в тумане Цитадель их маячить должна — дом «настоящих» охотников. Потом на запад — туда, откуда пришёл. В свой мир тихой воды да шевелящейся земли.
— Ну что, знатные уёбки.. — “сказал он, клинок о мох вытирая.” — Сжигайте своего и пойдём далей.
— Хавальник свой прикрой! Ебаный ты осёл! — “Выругивается Генрих.”
— А с какого хуя его так оставлять? Аль ты желаешь брату своему худшей судьбы!? Хуль делать будешь когда он с земли встанет.. Да пойдёт кромсать своих же? Мёртвому похую уж как его схоронят и где.. А он был таким же как и мы! Значит и сам бы желал, кабы его пожгли. — “Серафим был неприклонен. Он знавал такое количество историй, как оживали трупы, что не столь давно прикопали. Как их родственники видели, во что превратилась их любовь.”
— Блядь. — “Кратко выругивается Генрих, от безысходности губу прижимая свою.”
На том они и пожгли своего боевого товарища, коий канул в лету небытия. Для Искариота это было уж привычным. Граница меж жизнью и смертью для него была куда более размытой, нежели чем у не столько уж и опытных охотников как оно оказалось. Недолго глядя за тем, как труп их собрата полыхает на кострище погребальном.. Те ринулись прочь с этого места.. Двигаясь к цитадели.

Наконец троица добралась до крепких стен цитадели, мрачные и увесистые врата, кои были исколоты стрелами и бог знает чем только не были исколоты, вмиг отворились, когда Генрих воскликнул. Их путь был долог и не без потерь, но охотник на то и охотник, ещё не один из них не умер в своей постели.. Все они умирали страшной смертью, так было заложено и будет продолжаться до бесконечности. Пока будут бестии — будут и цехи. Серафим с удивлением в глазах рассматривал местные широты. Ведь раней он никогда не покидал Хакмарри. Всю свою осознанную жизнь он провел среди гор дерьма, трупов и нагноений.. По сравнению с былой жизнью, жизнь местных ему казалось чем-то столь диковинным. Словно его вырвали из одного мира и пересадили в другой, как какой-то сорняк, коий портит своим внешним видом всю картину. К группе подошёл один из бывалых.. Седовласых и мощный как медведь охотник.. Он вопросил, кто я таков и что приключилось с лисом, хотя он и сам знал ответ на свой вопрос.. После недолгих разговоров и ненужной лирики, старший подозвал Искариота к себе дланью, наказав двум другим отдыхать с дороги.
— Та-ак.. Кто ты такой? И с чего приперся к нам? И с какого тебя кличут могильщиком? — “Охотник размеренно шагал по двору цитадели. Тут и там слышались крики, звон клинков соединенных в едином танце. Видно было сразу — работа тут не утихала никогда.”
— Серафим Искариот, пришёл — потому что позвали. А могильщик, от того что режу всякую нечистоту. В основном как раз ожившие бляди, аль утопцы.. Мелочь всяка. — “Искариот доложил всё то, что было интересно охотнику.”
— Ясно-о.. А на более крупную дичь ходил?
— Нет. Я не дурак, чтобы ходить на что-то более опасное, нежели я сам. Жизнь мне дорога и отдавать её за просто так я не желал. — “Серафим ответил чётко и понятно.”
— Хо-о! Эво как оно получается. Дык ты из наших, только вот режешь только нежить? Весьма интересно. Хотя многие из нас специализируется на определенном виде бестий. У кого личные амбиции, у кого месть.. Каждый горазд по своему. А ты у нас значится люд сугубо разумный, ишь чё.. Режешь мелочь и остаёшься жив.. Тебе то самому не наскучило? — “С какой придурью молвил то охотник, чьи зенки отчего-то подрагивали, быть может старческое подумал Серафим.”
— Наскучило, потому я и тут.. Шо-ж.. Ды-ык.. Меня тут учить будут? Аль чего? — “Вопросил Искариот.”
— Ты хоть грамоте обучен какой, дикарь?
— Читать могу.. Не идеально конечно, но вполне себе осмыслить написанное смогу.
— В таком случае не смею задерживать.. Войдёшь в ту дверь — “Указал пристарелый своим пальцем на дверь вдали.” — И скажешь, что тебя сюда послал Хтон. Кабы читал и изучал.. Поглядим как ты осваиваешь информацию.. Вродь не мелкий, чтобы над тобою стоять, да задницу подтирать. Изучай.. Как изучишь чего путного, сразу докладывай мне.
И так нетривиально началась карьера Искариота в цивилизованном мире. Грамоте благо он был обучен на сколько позволили знания его матушки.. От того смысл некоторых слов терялся, но суть прочитанного он понимал.. Вечера на пролёт и ночи он проводил за чтивом, изучая виды.. Подвиды.. Всех тех, про кого ранее он и не слыхал.. Пусть информации было и мало, она была крайне сжатой.. Но-о, хоть какой-то толк от этого был. Он поднял свою общую осведомленность о тех или иных тварях. Но сухая теория к практике зачастую никак не относилась. Он понимал очень хорошо. В деле охотничьем уж слишком много нюансов, чтобы уместить всё на пожелтевшие листы пергамента, но с другой стороны — эти листы написаны чужой кровью.
Цитадель снаружи — крепкие стены, ворота, в которые когда-то бил таран. Внутри — ободранный, вонючий клоповник, и все тут. Серый камень, пропитанный дымом, потом и запекшейся кровью. Двор, похожий на загон под скотину: грязь по щиколотку, перемешанная с конским навозом, соломой и чьей-то блевотиной после физических нагрузок. Воздух — смесь говна из сортирных ям, запаха немытых тел, варёной брюквы и всегда, вот холера, всегда — железа. Железа и страха.
Жили они, как скот в стойле. В длинных, низких бараках с земляным полом. Нары в два яруса, набитые прелым сеном, которое давно превратилось в труху, кишащую блохами. По ночам скрипели доски, кто-то храпел, кто-то бредил, кто-то тихо плакал от боли в старых ранах. Срали в общую выгребную яму в углу, от неё тянуло такой вонью, что даже Серафим, нюх которого был убит гнилью, порой давился. Мылись раз в месяц, если повезёт, в ледяной воде из колодца во дворе. Большинство не мылось вовсе. Пили все. Пили много. Дешёвое, мутное пойло, от которого наутро раскалывалась голова, но которое хотя бы на пару часов заливало ту самую дыру внутри.
Тренировки. Не рыцарские турниры. Не изящные фехтовальные па. Грязь, пот, кровь и мат. Утром, когда солнце ещё не пробивалось сквозь гнилой туман, их выгоняли во двор. Старый, хромой на одну ногу дед по кличке Коваль, лицо которого напоминало кору старого дуба, орал хриплым голосом, перекрывая гул кузницы.
— Бег, суки! Пока не сдохнете! Кто упадёт — получит плетью по жопе!
И они бежали. По двору, заваленному хламом, спотыкаясь, падая в ту самую вонючую жижу. Серафим бежал молча. Он привык. Восемьдесят лет бегал. От утопленников, от мертвяков, от деревенских уродов с вилами. Здесь бежал просто так. От скуки.
Потом — спарринги. Не на затупленных мечах. На палках. Толстых, увесистых, сучковатых. Удары наносились не по правилам, а чтобы вывести из строя. По рукам, по ногам, по почкам, в пах. Коваль ходил между дерущимися и орал:
— Бей, блядь, не жалей! Он тебе не брат, он тебе — мясо! Его сегодня убьешь ты — завтра не убьёт бестия! В пах его, в пах, ебанашка! Глаз выбивай!
Серафим получал. Он был старше многих, опытнее в своём дерьме, но не в честном, грязном мордобое. Его били. Палкой по руке, от которой потом неделю не разгибались пальцы. Пинком под колено, от которого он падал в грязь, а сверху на него наваливался здоровый детина с пьяными глазами и начинал душить. Его вытаскивали, отливали водой, и он снова шёл. Потому что остановиться — значило показать слабость. А слабых здесь не уважали. Слабых здесь использовали. Как приманку. Как живца на крючке.
Однажды, после очередного спарринга, когда у него из разбитой губы текла кровь, а ребро ныло от удара, к нему подошёл один из «тренеров» — мужик с пустым взглядом и шрамом вместо уха.
— Могильщик, — буркнул он. — Говорят, ты с мертвецами управляешься. Покажи.
Его привели в подвал. Сырой, тёмный, пахнущий сыростью и плесенью. В центре на цепях сидел… нет, не сидел. Дёргался. Это был недавний ученик. Парень, что пришёл месяц назад. Он был мёртв. Глаза затянуты плёнкой, кожа синяя. Изо рта текла чёрная слюна. Его укусил какой-то тварь на вылазке, и он умер от лихорадки. А потом встал.
— Успокой его, — "сказал мужик со шрамом, подавая Серафиму зазубренный тесак и осиновый кол." — Учебный материал.
Серафим посмотрел на этого «учебный материал». Парень, наверное, хотел стать героем. А стал этим. Он подошёл. Мертвяк зашипел, потянулся к нему цепями. Серафим, не мигая, ткнул колом в грудь. Точный удар. Хруст. Труп обмяк. Всё. Быстро. Чисто. Без эмоций.
Мужик со шрамом хмыкнул.
— Деловито. Жалко, что не всех так быстро. Иди. Можешь взять его сапоги. Ему они уже не нужны.
Серафим взял сапоги. Они были почти новые.
Быт. Работа, тренировки, попойка, сон. Дни сливались. Он мало с кем говорил. Большинство здесь были либо молодыми горячими головами, жаждущими славы, либо старыми, изломанными циниками, которым уже было на всё плевать. И те, и другие были неинтересны. Первые скоро умрут. Вторые уже умерли внутри.
Единственным, с кем у него как-то завязалось подобие контакта, был парень по кличке Железко. Невысокий, коренастый, с лицом, вечно перепачканным сажей из кузницы. Он не был охотником. Он был оружейником. Подмастерьем. И он был так же чужд этой шумной, пьяной братии, как и Серафим.
Они познакомились у кузни. Серафим принёд точить свой тесак. Железко, не глядя на него, взял клинок, положил на точило.
— Зазубренный, — "констатировал он." — Мертвяков режешь?
— Утопцев тоже, — "ответил Серафим."
— Хуёвая работа.
— Не хуже твоей.
Железко впервые поднял на него глаза. Они были усталыми, но умными.
— Моя работа — чинить то, что вы ломаете. Интереснее.
С тех пор они иногда пересекались. Молча. Сидели на бревне у забора, Железко ковырял в зубах щепкой, Серафим смотрел в серое небо. Иногда делились едой. У Железко иногда была копчёная рыба — он менял её у кухарок на подправленные ножи. Серафим приносил краюхи хлеба, которые ему выдавали за «успехи» в учёбе.
Год спустя. Однажды вечером, после особенно тяжёлой тренировки, когда Серафим чувствовал, будто его всего переехало стадом коров, Железко подошёл к нему у колодца.
— Могильщик. Пойдём.
Они забрались на полуразрушенную стену, откуда открывался вид на тёмный лес и грязную ленту дороги, уходящей на запад. Железко молча протянул ему плоскую флягу. Серафим отпил — это был не дешёвый самогон, а что-то крепкое, горькое, травяное.
— Хорошо, — "хрипло сказал он, возвращая флягу."
Железко отпил, сморщился.
— Дерьмо. Но лучше, чем то пойло, что они тут жрут.
Помолчали. Внизу во дворе орали пьяные голоса, кто-то дрался.
— Я тут слышал разговор, — "тихо начал Железко, не глядя на Серафима." — Старики болтали. На западе, за горами, есть край. Болота, говорят, страшные. Гнилые. И полно там… твоей братии. Утопцев. Мертвяков. Целые поля, говорят.
Серафим насторожился.
— И?
— И платят там, говорят, за голову утопца в три раза больше, чем тут. Потому что своих охотников нет — все на крупную дичь забились, на славу. А эта мелочь… её резать некому. Народ гибнет от чумы, от голода, воюют все кому не лень. Мертвяков — как грязи.
Серафим молчал, вглядываясь в темноту.
— Риска меньше, — "продолжал Железко." — Нет этих… ваших оборотней, кровососов. Одна гниль. А ты в гнили, как рыба в воде.
— Ты к чему это?
Железко повернулся к нему. Его лицо в сумерках было серьёзным.
— Я тут… делаю одно дельце. Нужен человек. Не пьяный ублюдок, не пацан, мечтающий о подвигах. Нужен мужик, который не сдохнет от страха при виде шевелящегося трупа. Который сделает работу и не будет задавать лишних вопросов. И которому не жалко будет поделиться, если дела пойдут в гору.
— Какое дельце?
— Контрабанда. Оружие, серебро, зелья… там, на западе, в этих болотах, всё это на вес золота. А здесь… здесь можно достать. Я знаю каналы. Но везти — опасно. Дороги кишат не только бестиями. Люди похуже будут. Нужен охрана. Который и бестию прирежет, и человека… если что.
Серафим снова взял флягу, отпил. Горькая жидкость обжигала горло.
— А тебе-то что? Ты же оружейник. Тепло, сухо, жрать дают.
Железко усмехнулся, но в усмешке не было веселья.
— Тепло? В кузне адское пекло, а зимой сквозь щели дует так, что кости стынут. Сухо? Я сплю в подсобке, где крыша течёт. Жрать? Паёк, на котором дохлая крыса растолстеет. Я здесь, Могильщик, как ты — ни рыба, ни мясо. Не охотник, не воин. Прислуга. А я… я хочу большего. Хочу свою кузницу. Где буду работать на себя. А для этого нужны деньги. Много денег.
Он посмотрел на Серафима прямо.
— Ты здесь за год что получил? Пиздюлей да краюху хлеба. Тебя тут не уважают. Ты для них — чудак, который копается в могилах. На западе… там ты будешь нужен. Там твои навыки будут стоить денег. Реальные деньги. Не эти медяки.
Серафим долго смотрел на огни цитадели внизу. На этот вонючий, шумный, беспросветный ад. Восемьдесят лет он прожил в дерьме. Ещё год — в этом организованном дерьме. И что изменилось? Он стал чуть лучше драться на палках. Выучил названия тварей, которых никогда не видел. Получал пинки и насмешки.
— А если не выгорит? — "спросил он, наконец."
— Тогда помрём, — "просто сказал Железко." — Но помрём с деньгами в кармане или в бою, а не ссохнемся здесь, как старые собаки, которых выбросили на помойку. По-мужски.
Серафим вспомнил слова Хана. «Кто, коль не мы?» И свои собственные мысли у того костра, восемьдесят лет назад. Он хотел быть чем-то большим, чем могильщик.
Но он уже не верил в «большее». Он верил только в конкретику. Деньги. Еда. Выживание. На западе — платят втридорога за его дерьмовую работу. Там нет «элиты», смотрящей на него свысока. Там есть только гниль, болота и золото.
Он протянул руку. Железко, немного удивлённо, пожал её. Рука у оружейника была сильной, в мозолях.
— Когда? — "спросил Серафим."
— Через неделю. Будет караван со «стройматериалами» для форпоста на границе. Мы вольёмся в охрану. На месте… разберёмся.
— Договорились.
Серафим спустился со стены и пошёл к своему бараку. За спиной оставался шум, вонь, свет факелов. Впереди — тёмная дорога и запах болотной гнили. Ничего не менялось. Просто один вид дерьма сменялся другим. Но в этом новом дерьме, возможно, будет чуть больше серебра в кармане. А в этом мире, где надежда сгнила раньше, чем успела родиться, даже такое было роскошью.
 Через неделю, как и сговорились, влились они в охрану каравана. Не караван даже — жалкий обоз в три повозки, набитые ржавым железом, гнилыми досками и мешками с чем-то сыпучим, что смахивало на песок, смешанный с золой. «Стройматериалы для форпоста». Больше походило на то, что сгребли с обочины да решили куда-то сбыть.
Через неделю, как и сговорились, влились они в охрану каравана. Не караван даже — жалкий обоз в три повозки, набитые ржавым железом, гнилыми досками и мешками с чем-то сыпучим, что смахивало на песок, смешанный с золой. «Стройматериалы для форпоста». Больше походило на то, что сгребли с обочины да решили куда-то сбыть.Конвоиры — шустрая мелочь с потухшими глазами, наёмники третьего сорта, которые пахли луком, страхом и дешёвой выпивкой. На Серафима и Железко, когда те подошли, смотрели с немым вопросом и лёгким презрением. Ещё двое ртов кормить. Железко, однако, ловко сунул старшему, тощему как жердь мужику с кличкой Щербатый, пару монет и сухой рыбки.
— Мы свои, дядя. До границы дойдём — и след наш простынет. Хуже не будет.
Щербатый монеты в кулак загреб, рыбку в рот сунул, пожевал, хмыкнул.
— Ладно. Места на задней повозке есть. Только харч свой ищите. И если чё — вы первые под стрелы лезете, ясно?
— Яснее некуда, — "кивнул Железко."
Так и двинулись. Пыльная, разбитая дорога, уходящая на запад, в сторону границ Флоревенделя. Государство это Серафим знал лишь по слухам — бескрайние леса, болота, вечные туманы и какая-то своя, особая гниль. Говорили, тамошние короли давно забыли про окраины, а местные бароны только и делали, что грызлись меж собой за клочок земли, за право обложить налогом очередную деревню, ещё не вымершую от мора или не сожжённую в междоусобице.
Дни в пути слились в одно серое, унылое полотно. Холодные ночи у костра, где наёмники тихо перебрасывались костями да похабными шутками. Скудная еда — жёсткая солонина, чёрствый хлеб, иногда похлёбка из того, что удавалось найти или украсть по пути. Серафим и Железко держались особняком. Оружейник, к удивлению Серафима, оказался не болтуном. Он много смотрел по сторонам, что-то примечал, иногда что-то записывал на вощёной дощечке. Серафим же просто шёл. Его взгляд, заточенный на смерть, скользил по обочинам. Он видел следы — не звериные. Человеческие. Старые костры, брошенную рухлядь, а иногда и совсем свежее — тёмные пятна на земле, обрывки ткани, стрелы, воткнутые в деревья. Земля здесь была неспокойной.
На пятый день дорога пошла через чахлый, сырой лес. Воздух стал тяжёлым, пахнуть прелью и стоячей водой. Это уже были окраины Флоревенделя.
— Болота близко, — "тихо сказал как-то вечером Железко, разводя крохотный костерок в стороне от основного." — Чуешь? Гниль. Твоя стихия, Могильщик.
Серафим кивнул, не отрываясь от чистки своего тесака. Он чуял. Не просто запах тления. Что-то другое. Как будто сама земля здесь была больна.
Ночью их и нашли.
Не бестии. Люди. Вернее, то, что от них осталось.
Серафим спал чутко. Его разбудил не звук, а отсутствие его — внезапно стихло кваканье лягушек в соседнем трясине. Он открыл глаза, рука уже лежала на рукояти. Луны не было, только тусклый свет угасающих углей. И тишина. Гробовая.
Из тьмы между деревьями вышли они. Медленно, неуверенно, пошатываясь. Человек пять, не больше. Одетые в лохмотья, когда-то бывшие крестьянской одеждой. Лиц не было видно, но походка… она была той самой. Тяжёлой, волочащей, неестественной.
— К оружию! — "сипло крикнул Серафим, вскакивая на ноги."
Наёмники проснулись с матами и воплями.
— Чего раскричался? Волки, шо ли?
— Хуже, — "буркнул Серафим, не отводя глаз от приближающихся фигур." — Мертвяки.
Слово подействовало магически. Даже самые пьяные и сонные мгновенно протрезвели. Мертвяки здесь, на окраине, были хуже волков.
Первая фигура вышла на свет костра. Лицо было землистым, рот полуоткрыт, из него сочилась чёрная жижа. В руках — обломок косы. Он издал звук, похожий на бульканье воды в глотке утопленника, и занёс косу.
Наёмники не были героями. Они отпрянули, столпившись у повозок. Стрелять из своих жалких луков в темноте никто не решался.
Серафим вздохнул. Дело привычное. Он шагнул вперёд, навстречу косарю. Тот, не разбирая, рубанул. Удар был медленным, неуклюжим. Серафим легко уклонился, и его тесак, сверкнув в огненном отблеске, глубоко вошёл мертвяку в шею, почти отсекая голову. Труп рухнул, задергавшись в последней судороге.
— Их же несколько! — "панически закричал кто-то из наёмников."
— А вы, бляди, чем заняты? — "рявкнул Серафим, отскакивая от второго, который шёл на него, раскинув руки с почерневшими, когтистыми ногтями." — Оружие в руки берите, коль зарплату получаете!
Его голос, хриплый и не терпящий возражений, подействовал. Щербатый, скрипнув зубами, бросился вперёд с саблей. За ним, нехотя, ещё двое. Началась свалка. Не бой — убоище. Наёмники рубили и колотили по уже мёртвым телам, орудуя топорами и дубинами. Серафим же работал тихо, методично, как мясник. Кол в грудь, удар по ногам, чтобы свалить, потом добивание. Ничего лишнего.
Железко не дрался. Он стоял у повозки с большой кувалдой в руках, прикрывая тыл. Когда один из мертвяков, обойдя с фланга, пополз к нему, оружейник, не моргнув глазом, размахнулся и со всей силой всадил кувалду мертвяку в голову. Череп раздавился с неприятным хрустом, как спелая тыква.
Через несколько минут всё было кончено. Пять тел лежали в грязи. Серафим, тяжело дыша, вытирал клинок о мох. Наёмники, перемазанные чёрной дрянью, смотрели на него другими глазами. Не с презрением. Со страхом и уважением.
— Откуда они, блядь? — "спросил Щербатый, с отвращением пиная сапогом отрубленную руку." — Деревня рядом, что ли?
Серафим подошёл к одному из тел, перевернул его палкой.
— По одежде — местные. Не солдаты. Умерли недавно, тело ещё не совсем разложилось. И смотри — раны. — Он ткнул палкой в распоротый живот мертвеца. — Не от зверя. От меча, аль топора. Их убили. А потом они встали.
— Значит, где-то тут бойня была, — "тихо сказал Железко, подходя." — Или чумка. Или то и другое вместе. Надо сжигать.
— Сожжём утром, — "буркнул Щербатый." — Сейчас спать. Караул удвоить! Могильщик, ты первый смену держишь. Ты с ними… разговорчивее.
Утром, едва рассвело, они наскоро сожгли тела, залив их остатками дешёкого масла из повозки. Дым был густой, чёрный, вонючий. Пока горели, Серафим осмотрелся. В сотне шагов от дороги, в ложбине, он нашёл то, что искал. Небольшую, явно недавнюю могильную яму. Вернее, то, что от неё осталось. Земля была разрыта, доски гроба разбросаны. Внутри — пусто.
— Выкопались, — "констатировал он, вернувшись к другим." — Или их выкопали. Кто-то поторопился похоронить, да плохо закопал.
— Чтоб их чума взяла, — "пробормотал Щербатый, нервно поглядывая по сторонам." — Трогаемся. Быстрее отсюда.
Дальше дорога стала ещё хуже. Чаще попадались заброшенные хутора, с выгоревшими избами и полусгнившими заборами. Иногда на столбах висели высохшие трупы — предупреждение для чужаков, либо следы «правосудия» местного феодала. Воздух становился всё тяжелее, гнилостный запах болот уже не выветривался.
На десятый день они добрались до цели — жалкого частокола с двумя полуразвалившимися башнями, что гордо именовалось «Форпост Серая Сова». Внутри — горстка обмороженных, голодных солдат в ржавых кольчугах и пара таких же голодных и злых чиновников в засаленных камзолах.
Разгрузка проходила в гробовой тишине, под недобрыми взглядами местных. Когда последний мешок с «стройматериалами» сбросили с повозки, Щербатый получил кошель с деньгами (явно меньше обещанного), плюнул себе под ноги и махнул рукой своим.
— Дело сделано. Обратно, пока светит. А вы, — "он кивнул на Серафима и Железко," — как хотели. Сдохнете здесь — не моя печаль.
Наёмники, не оглядываясь, повернули обратно, на восток. Серафим и Железко остались стоять посреди грязного двора форпоста, под холодным, пронизывающим ветром, несущим с болот запах тления и отчаяния.

На десятый день они добрались до цели — жалкого частокола с двумя полуразвалившимися башнями, что гордо именовалось «Форпост Серая Сова». Внутри — горстка обмороженных, голодных солдат в ржавых кольчугах и пара таких же голодных и злых чиновников в засаленных камзолах.
Разгрузка проходила в гробовой тишине, под недобрыми взглядами местных. Когда последний мешок с «стройматериалами» сбросили с повозки, Щербатый получил кошель с деньгами (явно меньше обещанного), плюнул себе под ноги и махнул рукой своим.
— Дело сделано. Обратно, пока светит. А вы, — "он кивнул на Серафима и Железко," — как хотели. Сдохнете здесь — не моя печаль.
Наёмники, не оглядываясь, повернули обратно, на восток. Серафим и Железко остались стоять посреди грязного двора форпоста, под холодным, пронизывающим ветром, несущим с болот запах тления и отчаяния.
К ним подошёл один из чиновников, тощий, с пергаментным лицом.
— Вы кто такие будете? Наёмники от Боргарда? Документы.
— Мы вольные искатели, — "Железко вынул из-за пазухи потрёпанную бумагу с печатью одного из мелких баронов, купленную за немалые деньги." — Ищем работу. Слышали, тут проблемы с нежитью.
Чиновник просмотрел бумагу, скривил тонкие губы.
— Проблемы? Тут одни проблемы. И нежить — не самая большая. Работы для «вольных искателей» нет. Убирайтесь, пока вас не спустили с собак.
Железко не смутился. Он достал маленький, тщательно завёрнутый свёрток и сунул его чиновнику в руку. Тот на ощупь понял, что внутри серебряная монета, и лицо его чуть смягчилось.
— Однако… есть одна деревня. Вернее, то, что от неё осталось. В день пути к северу, у Чёрной Трясины. Там несколько семей ещё держатся. Жалуются, что покойники из болота по ночам ходят. Скот режут. Барон наш, — "чиновник презрительно махнул рукой в сторону каменной громадины, едва видневшейся на холме вдалеке," — ему не до того. У него война с соседом за мельницу. Так что, если хотите рискнуть… Можете попробовать. Но предупреждаю — платить им нечем. Разве что едой. Если она у них есть.
Серафим и Железко переглянулись. Это было то, что нужно. Гнилое, забытое богом и людьми место. Где их навыки будут в цене. Где можно начать.
— Дорогу покажете? — "спросил Железко."
Чиновник фыркнул.
— Дороги туда нет. Тропа есть. Но она через трясину. Если хотите — один из моих людей доведёт до развилки. А дальше — сами. Там заблудиться — и костей не соберут.
Час спустя они шли по узкой, едва заметной тропе, уходящей в серую, бескрайнюю чащу. Проводник, угрюмый молчальник, шёл впереди, не оборачиваясь. Воздух был насыщен влагой и тем самым сладковато-гнилостным запахом, что Серафим узнал бы среди тысячи других.
Он шёл, чувствуя, как старые, знакомые мурашки пробегают по спине. Это был его мир. Мир тихой воды, шевелящейся земли и вечного, непроглядного тумана. Только теперь здесь можно было не просто выживать, а, возможно, что-то заработать. Или сгинуть без следа, как сотни до них.
Железко шёл рядом, его лицо было сосредоточенным. Он что-то рассчитывал, обдумывал.
— Ну что, Могильщик, — "тихо сказал он, не глядя на Серафима." — Добро пожаловать в Флоревендель. В самое его гнилое нутро. Как чувствуешь?
Серафим посмотрел на болотную хмарь впереди, на кривые, чахлые деревья, на чёрную, вязкую землю под ногами. Он глубоко вдохнул воздух, полный смерти и забвения.
— Как дома, — "хрипло ответил он."
Трактир стоял на самом краю жалкой деревушки, вросшей в топь, как гнилой зуб в дёсну. Построен был из чёрного, отсыревшего бруса, крыша просела, из трубы валил едкий, смолистый дым — жгли что попало, лишь бы согреться. Внутри пахло кислым пивом, влажной древесиной, человеческим потом и отчаянием.
Серафим сидел в углу, у самого потухшего камина. Левая часть его лица и шеи, а также рука от кисти до локтя, были замотаны в грязные, пропитавшиеся дёгтем и чем-то желтоватым бинты. Из-под повязки на щеке виднелась багровая, слегка сочащаяся короста — страшный ожог, оставленный не огнём, а болотной гнилью особого пошиба. Две недели назад, у Чёрной Трясины, он полез вытаскивать из трясины девочку, которую туда затянуло. Вытащил. А из трясины вместе с ней вылезло и нечто другое — бесформенная, студенистая масса, что брызнула на него едкой слизью. Боль была такой, будто кожу с живца сдирали. Железко кое-как прижёг раны раскалённым клинком, но шрам и боль остались. Дышать стало труднее, левый глаз видел всё в мутной дымке.
Он пил. Не пойло, а что-то похожее на чистый спирт, разбавленный болотной водой. Пил, чтобы заглушить ноющую, огненную боль, что пылала под повязкой. Железко сидел напротив, молча ковыряя в миске какую-то похлёбку, больше похожую на помои. Их «дело» в деревне у трясины еле выгорело. Расплатились едой — мешком заплесневелого овса и тремя копчёными воронами. Не богатство. А Серафим теперь ещё и калека.
В трактире, кроме них, было ещё несколько посетителей. Пара местных мужиков, спивающихся в тишине, да троица у другого стола. Эти трое сразу бросались в глаза. Не местные. Одежда поношеная, но крепкая, на поясах — оружие, не для красоты. У одного через всё лицо шёл свежий шрам от когтя. Охотники. Такие же, как он, только, судя по виду, имевшие дело с чем-то покрупнее утопленников. Но они не стали рисковать и подходить к другим охотникам.. Серафим знал, что это далеко не его спектр возможностей. И они ушли прочь, оставляя за собой пустые, да вылизанные миски.
Шли они уже не по болотам, а по краю каменистого плато, изрезанного оврагами и пересохшими руслами рек. Воздух был сухим, пыльным, пах полынью и тоской. Серафим шёл, как автомат, почти не чувствуя земли под ногами. Ожог на лице затянулся грубым багровым шрамом, левый глаз видел лишь смутные тени, но боль притупилась до постоянного, глухого нытья. Он просто существовал. Дышал, шёл, выполнял работу. Всё остальное — шум в ушах.
Они вышли к одинокой ферме у пересохшей реки. Не ферма даже — два покосившихся сарая да полуразрушенная хибара из серого камня. Место выглядело вымершим. Но дымок из трубы вёлся. Железко, всегда практичный, решил спросить дорогу и, если повезёт, выменять еды.
— Жди тут, — "буркнул он Серафиму, указывая на колодец с сгнившим срубом." — Я попробую поговорить. Твой вид… не располагает.
Серафим кивнул, прислонился к теплой каменной стене колодца, закрыл глаза. Солнце пекло шрам. В ушах стоял звон — то ли от жары, то ли от вечного напряжения. Он почти отключился, провалился в привычное, серое небытие между сном и явью.
И тогда услышал. Не крик. Вздох. Короткий, прерывистый, полный такого ужаса, что его, видавшего виды, бросило в холодный пот. Звук шёл не из дома. Откуда-то сбоку, со стороны русла реки, где в глубокой, затенённой расщелине оставалась лужа стоячей воды — всё, что напоминало о реке.
Серафим открыл глаз. Инстинкт, выточенный десятилетиями, сработал раньше мысли. Рука сама легла на рукоять тесака. Он бесшумно, как тень, двинулся на звук.
В расщелине, у самой чёрной, застоявшейся воды, стояла девушка. Лет семнадцати, не больше. Просто одетая, в выцветшем платье, босоногая. В руках у неё был разбитый глиняный кувшин. Но не это было важно. Важно было то, на что она смотрела.
Из воды, медленно, бесшумно, поднималась фигура. Высокая, худая до кости, облепленная тиной и чёрным илом. Кожа белая, как у варёной рыбы, просвечивала синими прожилками. Длинные, слипшиеся волосы скрывали лицо, но Серафим знал — там пустые глазницы и безгубый рот. Утопец. Не из тех, что бродят по дну. Из «тихих». Тех, что подолгу стоят в воде, а потом… потом приходят за живыми. За тёплым. За светом, которого им так не хватает.
Девушка не кричала. Она была парализована страхом. Смотрела на приближающуюся смерть широко раскрытыми, невероятно синими глазами. В них читался не просто испуг. Какая-то детская, чистая безысходность. Как у зверька, попавшего в капкан.
Утопец сделал шаг из воды. Ил с его ног хлюпнул. Он протянул руку — длинную, костлявую, с почерневшими ногтями. Цель его была ясна — утащить в свою тихую, тёмную заводь. Навсегда.
Серафим не думал. Не оценивал. Он действовал. Мгновение — и он был между девушкой и тварью. Не заслонил её — оттолкнул в сторону, к стене расщелины, так что она споткнулась и упала на колени. Сам же развернулся к утопцу.
Тварь, увидев новое препятствие, замерла на секунду. Потом беззвучно, со скоростью змеи, рванула к нему. Руки-когти метнулись к его горлу.
Серафим не отпрыгнул. Он присел, уходя под удар, и его тесак, сверкнув в узкой полосе солнечного света, ударил не в тело, а по ногам. Не для ранения. Для подсечки. Остриё со скрежетом прошло по мокрым, скользким костям. Утопец, потеряв опору, рухнул вперёд, прямо на Серафима.
Тот, ожидая этого, откатился в сторону. Тварь тяжело шлёпнулась на камни. Серафим вскочил на ноги, но не для добивания. Он знал — в воде они почти неуязвимы. Нужно было отсечь от стихии. Его нога с силой вдавила костлявую спину твари в землю. Вторая рука выхватила из-за пояса не нож, а короткий, толстый дубовый кол — тот самый, что всегда носил с собой.
Утопец затрепыхался, пытаясь перевернуться. Из его скрытого тиной рта вырвалось бульканье — звук воды в лёгких. Его рука с нечеловеческой силой потянулась назад, к Серафиму, ногти впились в его голень, прорвали кожу. Боль, острая и холодная, пронзила ногу. Серафим даже не вскрикнул. Он занёс кол.
И в этот момент взгляд его скользнул на девушку. Она сидела, прижавшись к стене, смотрела на него. Не на тварь. На него. В её синих глазах не было уже того животного ужаса. Было что-то другое. Ошеломление. И… интерес? Невозможная, дикая в этой ситуации жажда жизни, вспыхнувшая в них при виде того, как кто-то борется.
Этот взгляд, длящийся долю секунды, сбил Серафима с ритма. Кол вошёл не туда, куда планировал — не между лопаток, а ниже, в ребро. Раздался сухой хруст. Утопец вздрогнул, но не ослабел. Его вторая рука обвилась вокруг ноги Серафима, пытаясь сломать.
И тогда девушка… зашевелилась. Не побежала. Она схватила с земли острый, длинный обломок камня и, с тихим, решительным всхлипом, ударила им утопца по руке, что держала Серафима. Удар был слабым, но точным — по запястью. Кости хрустнули. Хватка ослабла.
Этого мгновения хватило. Серафим вырвался, отпрыгнул, и со второго раза вогнал кол глубоко в спину твари, прямо в то место, где должен быть позвоночник. Утопец выгнулся дугой, издав последний, шипящий звук, и обмяк.
Тишина. Только тяжёлое, хриплое дыхание Серафима да тихие всхлипы девушки. Он стоял, опираясь на кол, воткнутый в труп, чувствуя, как из раны на ноге течёт тёплая кровь. Он смотрел на побеждённую тварь, потом медленно, очень медленно, повернул голову к девушке.
Она сидела на земле, всё ещё сжимая в руке окровавленный камень. Её синие глаза, огромные и мокрые от слёз, смотрели прямо на него. На его шрам, на грязную, заскорузлую одежду, на окровавленный тесак. Но в её взгляде не было отвращения. Не было страха. Был шок. И какая-то… благодарность? Нет, глубже. Понимание. Понимание того, что он только что сделал. И зачем.
— Ты… — "её голос был тихим, хриплым от слёз, но чистым, как звон стекла." — Ты его убил.
Серафим не ответил. Он выдернул кол из трупа и, хромая, подошёл к воде. Окунул в неё окровавленные руки, потом кол, потом тесак. Сполоснул. Действия механические, привычные.
— Он… он приходил уже второй раз, — "прошептала девушка, поднимаясь. Она была худенькой, хрупкой, как тростинка." — Сначала ночью… я думала, показалось. А сегодня… я за водой пришла…
— Сюда больше не приходи, — "проскрипел Серафим, не глядя на неё. Голос его звучал как скрип ржавой двери." — Воду бери из колодца. И скажи своим… чтобы сожгли это. — "Он кивнул на труп." — И могилы проверьте. Если кто недавно утонул… кол в грудь, аль голову с плеч.
Он повернулся, чтобы уйти. Боль в ноге была сильной, но терпимой.
— Подожди!
Он остановился, но не обернулся.
— Ты ранен. Нога… — "она подошла ближе. Он почувствовал её запах — не парфюма, а просто чистого тела, мыла из золы и чего-то травяного." — Пойдём к нам. Я перевяжу. У нас есть мазь…
— Не надо, — "отрезал он, делая шаг."
— Надо! — "в её голосе внезапно прозвучала сталь. Та самая сталь, что была в ударе камнем по руке утопца." — Ты спас меня. Я не могу… я не могу просто так отпустить тебя. Пойдём. Хоть на минуту.
Серафим обернулся. Смотрел на неё. На это худое, бледное, испачканное грязью лицо. На эти синие, невероятно живые глаза, в которых сейчас горел упрямый огонь. Он восемьдесят лет не видел в глазах людей ничего, кроме страха, жадности или пустоты. А здесь… Здесь было что-то иное. Что-то, от чего что-то старое, давно забытое, ёкнуло в его заскорузлой, мёртвой груди. Не больно. Странно. Тепло.
Он молча кивнул.
Она улыбнулась. Слабо, неуверенно, но улыбнулась. И эта улыбка, первая, увиденная им не в таверне за деньги, а просто так, осветила всё её лицо, сделала его… красивым. Неприлично красивым для этого гнилого мира.
— Меня зовут Лира, — "сказала она, осторожно взяв его за руку выше локтя, как бы поддерживая. Её прикосновение было лёгким, но твёрдым." — А тебя?
Он шёл рядом с ней, припадая на раненую ногу, чувствуя тепло её ладони сквозь рукав. Он смотрел прямо перед собой, на тропинку, ведущую к её дому.
— Серафим, — "хрипло выдавил он, и имя своё в её присутствии прозвучало как-то по-новому."
И пока они шли, он чувствовал, как что-то твёрдое и ледяное внутри него, что копилось восемьдесят лет, дало первую, почти незаметную трещину. От одного взгляда. От одной улыбки. От прикосновения тёплой, живой руки в этом мире вечной гнили и смерти.
Дом её оказался не хижиной, а усадьбой — когда-то крепкой, ныне полузаброшенной. Отец — бывший солдат, ныне хромой и вечно пьяный от боли в старых ранах, сидел у потухшего очага и тупо смотрел в стену. Мать умерла от лихорадки прошлой зимой. Лира держала всё одна: и огород, и козу, и отца. Она была сильной. Сильной по-другому, не так, как Серафим. Не силой выживания в грязи, а силой упрямого роста, как травинка, пробивающаяся сквозь асфальт.
Она перевязала его ногу своими руками — ловкими, уверенными, несмотря на лёгкую дрожь. Мазь, пахнущая мёдом и травами, действительно облегчила боль. Она молчала, сосредоточенно работая, лишь изредка бросая на него быстрые взгляды — не пугаясь его шрамов, а изучая их, как изучают новую, сложную книгу.
Железко, вернувшись и застав эту сцену, лишь поднял бровь и сел в уголке, чистя свой арбалет. Он всё понял без слов.
Серафим и Лира не говорили о любви. Не было ни прогулок под луной, ни вздохов, ни стихов. Их язык был другим.
Он приходил к её усадьбе, когда возвращался с работ. Не каждый раз. Но всё чаще. Приносил то, что мог: кролика, подстреленного на обратном пути, горсть диких ягод, кусок воска для свечей. Молча клал на стол. Она кивала, тоже молча, и ставила перед ним миску с похлёбкой, которая всегда оказывалась гуще и наваристее, чем то, что ела сама.
Они работали рядом. Он чинил провалившуюся крышу сарая, она подавала ему гвозди. Она копала огород, он молча брал вторую лопату. В тишине, нарушаемой лишь скрипом инструментов да криками ворон, что-то росло. Что-то неуловимое, как запах дождя на сухой земле.
Иногда, в редкие минуты отдыха на крыльце, она спрашивала. Не о нём — о его работе.
— А водяные… они все такие? — "спросила она однажды, глядя в сторону той злополучной расщелины, которую теперь обходили за версту."
— Разные.
— А их… жалко? Иногда?
Серафим остановил точильный камень. Посмотрел на неё. В её глазах не было осуждения. Был вопрос.
— Нет, — "честно сказал он." — Не жалко. Мёртвое должно лежать. Иначе живым не жить.
Она выдохнула. И улыбнулась ему. И в этот раз улыбка была не светлой, а благодарной, тяжёлой. И от этой улыбки что-то ёкнуло у него внутри так сильно, что он чуть не уронил нож.
Железко видел всё. И молчал. Но однажды вечером, когда они с Серафимом шли на новое задание, он спросил прямо:
— Ты с ней чего задумал, Могильщик?
Серафим молчал.
— Она девка как девка, — "продолжал Железко, разминая плечи." — Молодая, красивая, сильная. У неё тут хозяйство есть, пусть и разваливается. Ты ей нужен как защита. Как сильная рука. А ты… ты что с ней будешь делать? Всю жизнь тут проторчишь? Крышу ей латай, картошку копай?
— Не твоё дело, — "проскрипел Серафим."
— Моё, — "холодно парировал Железко." — Мы с тобой партнёры. Дела делаем. Деньги копим. Ты сейчас голову повесил, в облаках летаешь. На задании так нельзя. Ошибёшься — помрёшь. И меня подставишь.
— Я не ошибусь.
— Все ошибаются, кого тянет в сторону. Ты ей что, сказки на ночь рассказываешь? Про то, как мы грифона убили? Или правду? Про то, как кишки из бандитов вываливаются и как чумные дети хрустят под сапогом?
Серафим резко остановился. Его единственный глаз сверкнул опасным блеском.
— Заткнись.
— Не заткнусь. Я тебя вытащил из той цитадели, потому что увидел в тебе инструмент. Острый, надёжный инструмент. А инструмент не должен ни к чему привязываться. Особенно к чему-то… хрупкому. Она хрупкая, Серафим. Не телом — душой. В этом мире такие не живут долго. Или ломаются. Ты хочешь видеть, как она сломается? Когда узнает, кто ты на самом деле? Что ты за шрамом носишь?
Серафим сгрёб Железко за грудки и прижал к мокрому стволу сосны. Его дыхание было тяжёлым, в глазах плескалась ярость, которую он давно в себе не чувствовал.
— Ещё одно слово… и ты сгодишься только на болотное удобрение.
Железко не испугался. Он спокойно смотрел на него.
— Видишь? Уже не тот. Раньше ты бы просто промолчал. А сейчас — эмоции. Эмоции в нашем деле — смерть. Делай выводы, Могильщик. Я своё сказал.
Он отстранился и пошёл дальше по тропе. Серафим остался стоять, сжав кулаки, в груди — горячий, болезненный комок. Железко был прав. Чёртово право.
Ночь у костра. После мельницы (мороки оказались всего лишь парой одуревших от голода волков, которых быстро прикончили) они сидели у костра. Железко спал. Серафим — нет. Он смотрел на огонь и видел в нём не потусторонние знаки, а её лицо. Её синие глаза.
Он думал о словах Железко. Инструмент. Он и был инструментом. Долгие годы — инструментом для чистки мира от гнили. Удобным, бездушным. А теперь… теперь он чувствовал. И это было страшно. Страшнее любой бестии.
Он вспомнил, как неделю назад она попросила его остаться на ночь. Не для того, о чём он сразу подумал. А потому, что «отец опять запил, и в доме страшно одной». Он просидел всю ночь на стуле у двери в её комнату, слушая её ровное дыхание за тонкой перегородкой. И в тот момент он чувствовал не ярость, не холод, а… покой. Странный, непривычный покой. Как будто его долгое, бесцельное падение наконец замедлилось.
Правда. Она сама её вытянула из него. Не расспросами. Тишиной.
Они чинили плетень. Он молчал, она молчала. Потом она спросила:
— А у тебя… своя семья была?
Он замолчал. Отложил инструмент. Сел на землю, спиной к остаткам забора. И рассказал. Не всё. Осколками. Про приёмную мать, что умерла у него на руках. Про Хана. Про восемьдесят лет в грязи и смерти. Про то, как он убил впервые. Не про Элрона — про тех бандитов в деревне. Про хруст костей, про запах гниющей плоти. Он говорил хрипло, отрывисто, глядя куда-то мимо неё.
Она слушала. Не перебивая. Не вскрикивая от ужаса. Когда он закончил, в её глазах стояли слёзы. Но не от страха. От боли. За него.
— И теперь… теперь ты со мной, — "тихо сказала она, как будто это был самый важный вывод."
— Я опасен, Лира, — "выдохнул он, впервые назвав её по имени вслух." — Для тебя. То, что я делаю… это липнет. Смерть липнет. И рано или поздно…
— Прилипнет ко мне? — "она закончила за него. Потом встала, подошла, опустилась на корточки перед ним. Её глаза были на одном уровне с его." — Я и так каждый день смотрю смерти в лицо, Серафим. Каждый день, когда вижу отца. Каждый раз, когда иду за водой к той расщелине. Мир здесь — это и есть смерть. Ты же не приносишь её. Ты… отгоняешь её. Хоть ненадолго.
Она взяла его руку — большую, покрытую шрамами и мозолями — и прижала её к своей щеке. Её кожа была тёплой, мягкой, живой.
— Мне не страшно с тобой.
И в этот момент что-то в нём сломалось окончательно. Не ледяная броня. Что-то другое, что держало его в этом мире на плаву лишь силой привычки и злости. Он почувствовал, как по его щеке, обезображенной шрамом, катится что-то мокрое. Слёза. Первая за десятилетия.
Он не заплакал. Просто одна слеза вырвалась и скатилась вниз, потерявшись в грубой ткани его рубахи. Он не отнял руку. Сидел, чувствуя биение её крови под тонкой кожей виска, и смотрел на неё. И в его единственном глазу, всегда холодном и пустом, появилось что-то новое. Что-то уязвимое. И бесконечно ценное.
Железко, наблюдавший за этой сценой из-за угла сарая, где он якобы чинил упряжь, лишь покачал головой и тихо выругался. Инструмент был испорчен. Окончательно и бесповоротно. Но, глядя на то, как гигант, повидавший все круги ада, таял от прикосновения этой девчонки, он вдруг с неожиданной остротой почувствовал свою собственную, вечную пустоту. И впервые за долгие годы ему стало не просто холодно. Ему стало одиноко.
Решение пришло не в виде озарения, а как единственно возможный вывод. После той ночи, когда он позволил себе слезу, Серафим больше не мог быть прежним. Железко был прав — инструмент затупился. Но он ошибался в другом: Серафим не сломался. Он наконец-то перестал быть лишь орудием и начал становиться человеком. А человеку нужны корни.
Он сказал Железко у костра, через неделю после мельницы. Просто, без предисловий:
— Это был мой последний контракт.
Железко, жующий жесткую лепешку, лишь кивнул. Спорить было бесполезно. Он видел это в его глазах — решимость, куда более глухую и прочную, чем ярость.
— Что будешь делать?
— Останусь. Помогать ей. Хозяйство держать.
— И всё? — "в голосе Железко не было насмешки, лишь усталое понимание."
— Пока — всё.
Железко вытер руки, встал.
— Ладно. Делим последнюю добычу пополам. Мост сожжён. Удачи тебе, Могильщик. Надеюсь, трава на твоей могиле будет зеленой.
Он ушёл на рассвете, не оглядываясь. Серафим смотрел ему вслед, чувствуя не потерю напарника, а окончание целой жизни. На душе было пусто и странно спокойно.
Лира не спрашивала, когда он пришёл к её порогу с котомкой за плечами и молотом в руках — тем самым, которым чинил плетень. Она увидела это в его взгляде. Просто кивнула и подвинула на скамье место.
— Крыша в хлеву течёт, — "сказала она, как о деле самом обыденном."
— Починю, — "ответил он."
Так и началась их общая жизнь. Без клятв, без колец. Он перетащил свои нехитрые пожитки в пустовавшую комнатушку рядом с её. По ночам их по-прежнему разделяла тонкая перегородка, но теперь он знал — если ей станет страшно, она постучит, и он войдёт. Она не стучала. Но сам факт этой возможности согревал его изнутри.
Он стал частью усадьбы. Не хозяином, а опорой. Дни текли в трудах: он латал, копал, рубил дрова, чинил телегу. Она варила, ткала, ухаживала за козой и отцом, чьё пьяное оцепенение постепенно сменялось угрюмой, но трезвой покорностью судьбе. Возможно, присутствие в доме другого, ещё более искалеченного, но не сломленного мужчины, заставляло его понемногу возвращаться к жизни.
Их язык оставался молчаливым. Взгляд, кивок, движение руки. Но однажды вечером, когда он, уставший, сидел на крыльце, она положила ему руку на плечо и оставила её там. Это был их первый сознательный, не случайный жест близости. Он покрыл её руку своей ладонью. Им больше не нужно было слов.
Железко вернулся через полгода. Но не как охотник. Он привёл под уздцы потрёпанную телегу, гружёную каким-то железным ломом, парой мехов и наковальней.
— Деревне кузнец нужен, — "буркнул он, увидев вышедшего на стук топора Серафима." — А тут место знакомое. И народ… тихий.
В его глазах не было прежней холодной отстранённости. Была та же усталость, что и у Серафима, но смешанная с любопытством.
Серафим кивнул.
— Пустое стойло за амбаром есть. Крыша цела.
— Устроит.
Железко стал деревенским кузнецом. Он был груб, брал дорого, но работал на совесть. Его боялись, но уважали. Иногда вечерами он заходил к Серафиму и Лире. Сидел молча, пил домашний квас, смотрел, как они общаются — всё так же немногословно, но с какой-то незримой, прочной связью между ними. И потихоньку, очень медпенно, ледяная пустота внутри него тоже начинала таять, замещаясь простым, бытовым покоем.
А потом у Лиры пропал аппетит, и по утрам её мутило. Она не сказала ничего, просто однажды взяла его руку и приложила к своему ещё плоскому животу. Посмотрела ему в глаза. В них не было страха. Была та же упрямая, твёрдая сила — сила травы, пробивающей асфальт, сила жизни, которая настойчиво прокладывает себе путь даже сквозь самый мёртвый камень.
Серафим почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Но на этот раз — не в пропасть. Он стоял на этой земле, на своей земле, и под его ладонью билась новая жизнь. Его жизнь. Их жизнь.
Он опустился перед ней на колени, прижался лицом к её животу, к той точке, где спала его будущность. И снова не смог сказать ни слова. Но он и не нуждался в них. Она запустила пальцы в его жёсткие волосы, и в её тихом, глубоком дыхании был весь ответ.
На пороге кузницы, заслышав на следующий день звон топора — Серафим принялся рубить колыбель из старой яблони — Железко усмехнулся. Не едко, а с какой-то горьковатой нежностью.
«Ну что ж, — подумал он, раздувая меха. — Значит, и у могильщиков бывают потомки. И у инструментов — своя судьба».
Он взял раскалённый прут и начал ковать скобу для новой телеги. Прочную, надёжную, чтобы служила долго. Простую и нужную вещь. Такую, каковой, как он теперь понимал, и должна быть жизнь. Больше не было Драмма, исторгающего мрак. Больше не было бандитской орды, сжигающей всё на пути. Эти угрозы остались в истории, в страшных сказках, которые Железко, навеселе, рассказывал у камина. Деревня за двадцать лет отстроилась, разрослась, обнесла себя новым частоколом. Мир стал прочнее, обыденнее. Их жизнь окончательно встроилась в тихий ритм земледелия и ремонта. Серафиму шёл седьмой десяток, но морфитская кровь и железная дисциплина держали его прямым, как ствол старого дуба. Только седина в волосах и чуть глубже врезавшиеся морщины вокруг глаза говорили о возрасте. Лира, наоборот, будто застыла — седина лишь оттенила её ясный взгляд, а руки, хоть и в новых морщинках, оставались такими же ловкими и уверенными.
Алиса выросла. Тихая, странная девушка с глазами матери и ушами отца. Она вышла замуж за сына местного лесника — парня спокойного и крепкого, который смотрел на её «особенности» не со страхом, а с любопытством. Жили они в новой, срубленной сообща избе на краю деревни. У них уже был сын, черноволосый карапуз, обожавший деда Серафима.
Тот день был самым обычным. Конец лета, воздух густой от запаха спелой ржи и нагретой смолы. Серафим и Железко заканчивали чинить телегу у сарая. Спорили о том, как лучше укрепить ось.
— Ты, старый упырь, в баллистике смысла не больше, чем свинья в апельсинах, — "ворчал Железко, забивая клин."
— А ты, ржавая кочерга, последний раз что-то путное выковал, когда у тебя ещё волосы на голове были, — "отзывался Серафим беззлобно."
Лира вышла из дома. Она несла широкую плетёную корзину, доверху набитую постиранным бельём. Простыни, рубахи Серафима, пелёнки внука — всё пахло дымом, щёлоком и солнцем. Она шла к протянутой между двумя яблонями веревке, мимо них.
— Обед через час, не увлекайтесь, — "сказала она, и в её голосе была та самая, двадцать лет знакомая, тёплая нота лёгкой укоризны и заботы."
— Слышим, командир, — "хрипнул Железко, салютуя ей молотком."
Она улыбнулась. Широко, по-девичьи, закидывая голову. Солнце играло в её седых волосах, в морщинках у глаз. Она сделала ещё шаг, поправляя корзину на бедре.
И из лесной чащи, той самой, что начиналась в тридцати шагах за огородом и где они двадцать лет собирали грибы и ягоды, вылетел болт.
Не было свиста. Не было крика. Был только короткий, сухой звук, похожий на щелчок огромного пальца.
Болт, короткий, с матово-чёрным оперением, ударил Лире прямиком в шею
Она не дёрнулась. Не уронила корзину. Она просто перестала идти. Её улыбка замерла, превратилась в нелепую, застывшую маску. Синие глаза, секунду назад светившиеся жизнью, остекленели, уставившись в пустоту. Она медленно, почти величаво, осела на колени, как будто решила передохнуть. Корзина с бельём опрокинулась с мягким стуком, и ветерок тут же подхватил уголок белой простыни, начав разворачивать её по земле..
Время остановилось.
Серафим стоял, зажав в руке гаечный ключ. Он видел всё в мельчайших деталях: солнечный зайчик на медном тазу в корзине, травинку, прилипшую к её туфле, как медленно, сантиметр за сантиметром, её тело клонится вбок, чтобы упасть на подушку из чистого, свежевыстиранного белья.
В его голове не было мысли. Был только белый, ревущий вихрь, сметающий всё на свете. Все двадцать лет. Все тихие утра, все вечера у печки, все её улыбки, все её взгляды, все её прикосновения — всё это было сметено одним страшным порывом..
Железко первым сорвался с места. Не к Лире — к Серафиму. Он бросил молот и навалился на него всем телом, зажав ему рот своей мозолистой ладонью, потому что увидел — рот Серафима уже открылся для крика, который мог разорвать мироздание.
— Молчи! — "прошипел Железко прямо в ухо, и в его голосе был дикий, животный страх." — Не двигайся!
Но Серафим уже не слышал.. Ничего не слышал.. Лишь пронзительный писк в ушах, что заполонил вскоре его разум. Не Передать словами весь тот спектр бесконтрольного ужаса и страха, что пережил Искариот одномоментно. С его очей не лились слёзы.. Он не ощущал и руки подле своих уст.. Он просто смотрел за тем, как из шеи кою он целов лилась алая жидкость, коя обрамляла травинки под бездыханным телом. Вдруг из лесу вырвалась та самая первородная злоба.. Коя скрывалась всё это время.. Толпы разъяренных бандитских морд хаотично забегали в деревушку.. Слышались рёвы, крики.. Чьи-то всхлипывания и нескончаемый поток ужаса.. Но Искариоту было всё равно. В его жизни не было болей смысла.. Но нет.. Как же он мог забыть! Минутная слабость позволила ему опустить руки в тот момент, когда нужно было собраться, ведь его дочь всё так же жила в этой деревне.. Ведь она сейчас там.. Он вырвался из лап железки, да прихватился за топор, коий стоял подле наковальни.. Он бежал, что было мочи, кабы успеть.. Лишь бы успеть. Дыхание было несобранным.. Он сам был несобранным. Сердце ещё чуть и рванет из груди.. Его тело и разум были на пределе. На улицах деревни творился сущий кошмар.. Кто-то тянул дев за косы.. А кто-то добивал детей, что пытались уползти из-под сапог.. По ходу своего движения он убивал.. Убивал всех тех, кого мог.. Кого видел.. Всех тех, кто напал на деревню. Он пробивался с боем к лачуге, в коей должна была быть его дочь, но подойдя к той, он лишь увидал разгорающуюся древесину.. Он почувствовал всем своим телом тот обжигающий жар и вот казалось бы кто-то хочет вырваться из окон горящей хатки, разбивая те попутно.. Это была его дочь! Но вдруг ноги предательски подкосились.. А глаза закрылись. Темнота. Пустота и ничего болей.. Быть может это был лишь дурной сон?
Открыл свои очи Серафим на утро после произошедшего.. Его голова раскалывалась, а зрение всё не прояснялось.. Он чувствовал как его лёгкие забились гарью.. Он пытался откашляться, но не получалось. Тело не слушалось.. А мозг не желал понимать происходящего.. Думы были сплетены в один однородный клубок, коий никак не развязывался.. Он вновь отрубился.. На следующее своё пробуждение он все же смог встать, в ушах стоял звон, а нос был забит грязью, да землей, вперемешку с пеплом..
Внутреннее самоощущение опустошения захватило его в полной мере. Он оглядел пепелище дома, коий был пристанищем для его дочери.. Оглядел его с основания до обрушившийся крыши. И вот вновь.. Он остался один.. Сгинуло всё, всё что он любил, холил и лелеял. Кончина сущего и начала нового мрака.
Морфит медленно ступал по пепелищу, двигая к своей бывшей хате.. Да и хата сгинула. Железко ему так и не удалось отыскать.. А на труп возлюбленной, он не мог смотреть. Он мог бы посмотреть на труп любого человека.. Но не её.. Он ушёл.. Просто молча ушёл, ступая по инерции куда-то вдаль.. Бесцельно и безвольно. Именно так обернулась жизнь в его сто двадцатый год.